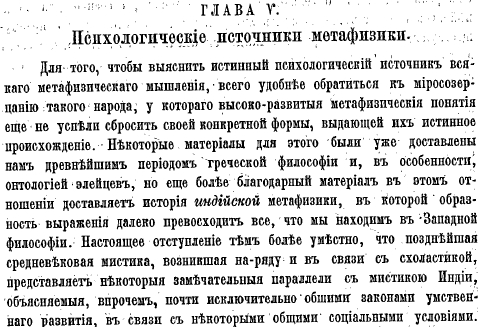
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
Том 2
Глава V.
Психологические источники метафизики
Для того, чтобы выяснить истинный психологический источник всякого метафизического мышления, всего удобнее обратиться к миросозерцанию такого народа, у которого высокоразвитые Метафизические понятия еще не успели сбросить своей конкретной формы, выдающей их истинное происхождение. Некоторые материалы для этого были уже доставлены нам древнейшим периодом греческой философии и, в особенности, онтологией элейцев, но еще более благодарный материал в этом отношении доставляет история индийской метафизики, в которой образность выражения далеко превосходит все, что мы находим в Западной философии. Настоящее отступление тем более уместно, что позднейшая средневековая мистика, возникшая наряду и в связи с схоластикой, представляет некоторые замечательные параллели с мистикою Индии, объясняемые, впрочем, почти исключительно общими законами умственного развития, в связи с некоторыми общими социальными условиями.
Греческая метафизика с самого начала стремилась стать на объективную почву. Ее интересовали либо вопросы генезиса и эволюции мира, либо мировая сущность, поэтому истинный психологический источник (перенесение человеческой личности во внешний мир), здесь большею частью замечается лишь при внимательном анализе. Индийская метафизика, наоборот, сразу выдает свое субъективное начало. И это вполне соответствует различению культурных и социальных условий. Стоит вспомнить о кипучей, деятельной жизни грека классического периода, об его участии в политике, об окружавших его произведениях искусства и сравнить это с созерцательной жизнью индусского брамина. Мудрецы, изучавшие Веды, мало интересовались внешним миром, а стало быть и происхождением этого мира. Их гораздо более интересовал вопрос, «каким образом индивидуальная душа стала тем, чем она есть, и каким образом явилась у нее вера в объективный, сотворенный мир» (Max Mailer, Theosophie, 267 (Leipzig, 1895).
Брахман - высшее существо, включающее в себе всю вселенную, и атман, человеческий дух иди душа, таковы основные понятия индийской теологии. Несмотря на ее пантеистический характер, отделение субъекта от объекта здесь отчетливее, чем в греческой метафизике, в других отношениях далеко более выработанной, чем индийская, мы знаем, напр., что даже у Аристотеля душа есть прежде всего функция тела, обусловливающая в нем чисто физиологические процессы питания и роста (питательная или растительная душа) и психофизиологические процессы раздражения, и ощущения (животная душа), и лишь умственная сторона души признается до известной степени отдельною от организма. В индийской метафизике, как, напр., в Упанишадах, в образной форме изложен умственный процесс, приводящий к отделению субъективных элементов от объективных. Пусть взят чистый, прозрачный кристалл горного хрусталя и положен подле красной розы, которая придаст ему розовый оттенок. Истинная природа кристалла т.е. его прозрачность и чистота, не отделена от ограничивающих условий, т.е. от красной розы, но как только мы познали ее отдельность, кристалл вновь принимает свою истинную природу, т.е. признается прозрачным и чистым. В таком же положении находится индивидуальная душа, пока она не отделена от ограничивающих ее телесных условий. «Друг мой, - сказано в одной индийской книге, - хотя атман живет в теле, он не действует и не оскверняется». Более резкий дуализм души и тела трудно себе представить. И тем не менее, это учение мирится с космологическим монизмом. Это происходит, таким образом, что индивидуальная душа оказывается, в сущности, тождественною с высшим существом, различие, между атманом и брахманом, душою и божеством, чисто относительное, зависящее от ложного и неполного познания. Зрящий оком, т.е. индивидуальный субъект, есть тот же «бессмертный, бесстрашный брахман».
В позднейших Упанишадах это выражено еще резче и в более субъективном смысле. Брахман употребляется там в среднем роде, вместо мужского, и обозначает просто всеобщую субстанцию или сущность всех вещей, познать брахман значит быть брахманом. Tat tvam asi: ты это, т.е. ты, ограниченное человеческое существо, не что иное, как высший абсолют, брахман—такова. формула этой метафизики, и так как, брахман не имеет ни начала, ни конца, ни частей, то душа, не есть часть брахмана, но весь брахман должен присутствовать в каждой индивидуальной душе всецело. Чрезвычайно любопытно сравнить этот взгляд с приведенными уже мнениями Гильома из Шампо, и с учением Плотина, утверждавшего, что истинная сущность, должна присутствовать в каждой части мироздания, входя в нее, как целое.
(Henry More предложил назвать такое учение голенмеризмом, от слов,означающих по гречески целое и часть. У Плотина монистическое учение, конечно, гораздо более развито, чем у средневековых схоластов. Его «первобытное существо» не может быть противоположно чему-либо по своей безотносительности, оно выше, как мышления, так и бытия, и присутствует во всем, отличаясь от множественности и не будучи в состоянии ни разделиться, ни утратить что-либо. Как свет, освещая мрак, не изменяется, так и первичное существо, несмотря на излияние своей силы, не изменяется. Смутное предчувствие закона сохранения энергии (первой силы) смешано здесь с этико-телеологическим принципом, для чего Плотин и вводит понятия мирового «блага». Плотин, основатель неоплатонизма, жил в III веке, он мечтал устроить город философов, будто бы по образцу платоновской «республики», но скорее в духе христианского аскетизма (хотя сам стоял в стороне от христианства). В этическом учении он был продолжателем циников и стоиков, стыдился того, что имел тело, и проповедовал чисто-созерцательный идеал - слияние с первопричиной. Так как познание бесконечнаго - конечным невозможно, то вместо него требуется экстаз, который и приводит к поглощению в бесконечном. У Льюиса можно найти ясное и, в общем, очень меткое изложение учения Плотина (стр. 283—303 русск. 2-го изд. в пер. Вольфсона). Этот отдел один из удачнейших в его книге. Желающие ознакомиться с учением Плотина подробнее могут обратиться к, Tholuck, Morgenlandische Mystik, Berlin 1825, Kirchner, Die Philosophie des Plotin, Halle, 1854, H. v. Kleist, Plotinische Studien, Heidelberg, 1883. Сравни также Max Muller, Theosophie etc., 13-te Vorlesung, 418—426.
Прекрасный очерк учения о брахмане был написан известным ориенталистом Брупгофером, одним из ближайших учеников Макса Мюллера, для издаваемого мною журнала (Научное Обозрение, 1894 г., №№ 36 и .37), па основании изданнаго Максом Мюллером перевода Упанишад: F. Max Mttller, The Sacred Books of the East. Oxford, 1879—1884.)
Атман индийской философии, в конце концов, оказывается лишь субъективной стороною брахмана. Индийские философы считали самоочевидным (svayam-prakasa), что субъективные явления подразумевают трансцендентную объективную реальность, именно эта трансцендентность не только не отвращала их, от попыток познать ее, но, наоборот, привлекала своей таинственностью.
Каков же был путь постижения этого трансцендентного начала?
Ответ дает замечательный разговор, находящийся с одной из Упанишад и приводимый Максом Мюллером в его лекциях о «психологической религии». Разговор этот как бы нарочно придуман для того, чтобы подтвердить блестящие открытия новейшей антропологии, приведшие к так называемой теории призраков. И хотя в том виде, как она защищается Спенсером, эта теория есть крайность (первобытный анимизм едва ли нацело объясняется этой теорией), но когда речь идет о более развитой теологической метафизике, теория призраков проливает неожиданный свет на происхождение некоторых понятий, кажущихся, на первый взгляд, отрешенными от всякой эмпирической почвы. Вот, вкратце, содержание упомянутого диалога, происходящего, как и многие другие разговоры в индийских теологических книгах, между богами. Речь идет о том, чтобы познать дух, или самое (это и есть атман), свободное от греха, от старости, от смерти и печали, от голода и жажды, кто познает этот дух, тот приобретет все миры и выполнит все желания. Так говорит Праджапати (Pragapati). Услышав это, Индра и Вирочана приблизились к владыке, держа в руках каждый по лучине - обычай требовал этого от учеников, приближающихся к учителю. Одни прожили у учителя 23 года, и только тогда владыка обратился к ним с вопросом, чего они хотели? На вопрос, как познать атман, он отвечает не сразу, но сначала говорить загадками. «Лицо, - говорить он, - видимое глазом, это есть атман... Это бессмертное, безбоязненное, это есть брахман». Ученики должны были догадаться, что речь идет о самопознании, но они поняли, что здесь подразумевается изображение человека в чужом глазу. Они спросили поэтому: «Владыка, это тот, кого мы видим в воде, и тот, кого мы видим в зеркале?»
Владыка ответил: «Это он сам, видимый во всем этом. Посмотрите на самих себя в чан с водою, и скажите, чего вы о себе не понимаете?»
Они посмотрели.
«Что вы видите?»
«Мы видим самое (атман) и так, что это точное изображение, вплоть до волос и ногтей».
Тогда владыка сказал: «Нарядитесь в лучшие платья, очиститесь и посмотрите снова».
Они посмотрели.
«Что вы видите?»
«Мы видим себя, каковы мы, в наших лучших платьях».
Владыка сказал: «Это есть самое, это бессмертное, безбоязненное, это брахман».
Они ушли довольные, но владыка сказал им вслед: «Оба уходят, не восприняв самого, не
познав его, и кто последует этому знанию, тот погибнет»
Вирочана пошел проповедовать учение, что надо помнить только самое (атман) и что почитающий его приобретет весь мир. Следующие этому учению украшают тело умершего, умащают его благоуханиями и думают, что таким образом приобретут весь мир.
Но это грубо-физическое истолкование атмана не удовлетворило Индру. Он подумал: если атман представляется в виде изображения в воде, прекрасным и нарядным, когда тело украшено, то он представится хромым, если тело хромое, и вообще погибнет с погибелью тела. В этом учении не может быть ничего хорошего.
Индра взял снова лучину и пришел к владыке. Тот потребовал, чтобы ученик прожил у него еще двадцать три года, а затем сказал: «Кто блуждает в блаженных сновидениях, тот и есть самое (атман), это есть бессмертное, безбоязненное, это брахман».
Индра ушел довольный, но на пути призадумался. Правда, это «самое», являющееся в сновидениях, не хромает, если тело хромает, не поражается ударом, когда тело поражено, но все же оно сознает боль и проливает слезы. В этом учении нет ничего доброго.
Он снова пришел с лучиной. После нового 23-летнего испытания, владыка сказал:
«Когда человек спит и в полном покое не видит никаких сновидений, это есть самое, это бессмертное, безбоязненное, это брахман».
Индра ушел довольный, но на пути призадумался. Таким образом ведь нельзя познать своего атмана, нельзя узнать ничего существующего, это полное уничтожение, в таком учении нет ничего доброго.
После нового пятилетнего испытания владыка объяснил, в чем дело. Тело смертно, оно жилище бессмертного, безтелесного духа, атмана. Пока он в теле, тело испытывает удовольствие и страдание, но когда он свободен от тела, то ему не присущи ни удовольствие, ни страдание. Отдаляясь от тела, он приближается к свету, и тогда он есть «высшая личность».
Дух запряжен в тело, как лошадь в телегу. Тот, кто знает «я хочу понюхать это», есть атман, а нос - только орган обоняния. Тот кто, знает «я хочу это мыслить», есть атман, кто познает это самое, тот приобретает весь мир.
«Так сказал владыка, да, так сказал владыка» (Вся эта легенда извлечена, в сокращенном виде, из «Теософии» М. Мюллера, стр. 247 и след.)
В этом философском мифе заключено превосходное изложение эволюции той идеи,, которая лежит в основе всякой метафизической психологии. Начав, с грубо-физических наблюдений над отражениями, человеческая мысль переходит к призракам, видимым в сновидениях и к вопросу о физической, смерти, мало-по-малу понятие о духе-призраке становится все более утонченным и, наконец, отожествляется с некоторым предполагаемым субстратом, лежащим в основе нашего самосознания и воли.
Одной этой легенды было бы достаточно для того, чтобы понять, что идея, лежащая в основании спиритуалистической метафизики, развилась из опытных начал и, стало быть, никак не может считаться прирожденною. Существуют, однако, многочисленные прямые доказательства этого положения. Наиболее поразительный пример сообщен известным путешественником Самуилом Бэкером и воспроизведен недавно Спенсером (Spencer, Syntliet. Philosophy, Vol. VIII, licclesiastic. Institutions, p. 4-5)
Вождь одного живущего близ Нила племени, на вопрос: «верите ли вы в то, что человек будет существовать после смерти» ответил с изумлением: «Как это может быть? Разве мертвец может выйти из могилы, если мы его не выкопаем?» «Думаете ли вы, что человек умирает как скот?» «Конечно: бык сильнее человека, но он умирает, и его кости дольше держатся, они толще, человеческие кости скоро рассыпаются, человек слабее». На вопрос о сновидениях, вождь засмеялся и сказал: «Как же вы это объясняете? Я этого понять не могу, это случается со мною каждую ночь». На вопрос: боится ли он чего-либо? Последовал ответ вождя: «Боюсь слонов и других зверей ночью, но ничего другого». Когда же ему привели пример зерна, истлевающего и затем дающего дерево, он ответил: «Это я понимаю. Но первое зерно не вырастает, оно гниет, как труп человека, плод не есть прежнее зерно, а его порождение. Так и человек: я умираю, и тем все кончается: но мои дети вырастают, как плод от зерна. У некоторых людей нет детей, и некоторые зерна погибают без плода: тогда всему конец».
Это, конечно, не материализм в философском смысле слова, но каждый согласится с тем, что здесь нельзя найти даже намека на веру в какое бы то ни было духовное существование. Для установления такой веры требуется продолжительная психологическая эволюция, и главные ее стадии мы только что видели в индийской легенде.
Из таких психологических элементов выработался, под влиянием своеобразных социальных и культурных условий Индии, метафизический реализм, по сравнению с которым бледнеют не только системы средневековых схоластов, но и учение Платона, и позднейший пантеистический монизм Джордано Бруно. Для отыскания вполне подходящих параллелей, пришлось бы обратиться к некоторым сторонам учения Спинозы и Шопенгауэра, причем зависимость этого последнего от индийской философии обнаружена им самим слишком ясно для того, чтобы ее следовало подчеркивать.
Посмотрим теперь, каково было дальнейшее развитие понятия о трансцендентной реальности. На это указывает диалог, происходящий уже не между богами, а между отцом и сыном, изучавшим Веды и вообразившим, что он постиг всю премудрость. Отец предлагает сыну вопрос, на который тот не умеет ответить: как можно слышать неслышимое, воспринимать невоспринимаемое, познавать непознаваемое?
Чтобы доказать возможность метафизического познания, отец приводит примеры, вроде следующего: по одному комочку глины узнается все глиняное, различие между той или иной посудой есть лишь словесное, на самом же деле все это глина. Таким образом, формальный принцип, господствующий, например, у Аристотеля над материей, здесь признается словесным, но из этого не следует, чтобы первенство отдавалось материи. Вечный брахман есть единственное сущее, оно не могло произойти из ничего, наоборот, оно произвело все своею мыслью. Это единое существо помыслило: да будет из меня многое, и породило из себя огонь, в свою очередь породивший воду, и т. д. Но собственно космогоническая задача играет второстепенную роль в этом миросозерцании, она служит лишь иллюстрацией того, что истинной сущностью всех творений служит тот же брахман. Он составляет и жизненный принцип всего живущего. Как ни далека эта система от материализма, но замечательно, что в ней есть намеки на понимание принципа неуничтожаемости материи. В том же диалоге отец заставляет сына растворить соль в воде и говорит, что хотя соль нельзя видеть и нельзя наблюдать ее сущности, однако, она там остается, брахман является не только динамической, но и чисто материальной основой всей вселенной, лишь позднейшая индийская философия разъясняет, что материальность есть чистая иллюзия.
Брахман не есть материальная основа мира, как глина - основа горшка, глина становится горшком, понятие брахмана, обратно, исключает всякую перемену, всякое превращение. Брахман необходим для существования миpa, он ведь есть истинная сущность, а видимый мир только явление, но брахман не превращается в мир. Мир создается лишь «именем и формой» (nama-rupa) путем истечения (эманации), а не творческого акта в настоящем смысле слова. Брахман не подобен горшечнику, лепящему мир из глины.
Следует впрочем заметить, что лишь в более поздние времена индийская философия истолковала акт эманации в этом, чисто спиритуалистическом духе, в Упанишадах еще встречаются сравнения, вроде того, что брахман сотворил мир, извлекши его из себя, как паук - паутину, или как голова, из которой вырастают волосы.
На вопрос, откуда же являются имена, и формы видимого мира индийская философия дает ответ: они, происходят от незнания, иллюзии (Avidya). Это незнание даже было воплощено в человеческую форму и приняло образ женщины Майи (Maya).
Такая философия должна была отрицать не только какую бы то ни было физическую индивидуальность, но и всякое личное психическое начало. Земная личность есть просто темница для мировой души. (Резюмируя понятие о Брахмане, Макс Мюллер говорит (Theosophie, 306) «Если брахман есть все во всем, единое без чего-либо другого, то ни о чем, что не есть брахман, нельзя сказсть, чтобы оно существовало. Вне бесконечного и универсального нет места для чего бы то ни было, нет места и для двух родов бесконечного – бесконечного в природе и в человеке».)
Таким образом, индийский брахман представляет универсал в настоящем смысле слова, в противоположность тем, далеко не последовательно применяемым универсалам, с которыми имел дело схоластический реализм (Я не касаюсь здесь вопроса о разногласиях между различными школами ведантистов, ограничиваясь лишь указанием наиболее типичных воззрений). Именно поэтому было вполне уместно нарушить хронологический порядок изложения и перенестись из средневековой Европы в древнюю Индию, в смысле развития идей, индийская метафизика представляет высшую стадию, по сравнению с метафизикой Скота Эригены, Ансельма и Гильома, с другой стороны—здесь гораздо легче проследить отдаленнейшие источники метафизическаго реализма (В высшей степени любопытные сходства и различия можно указать между философией Упанишад и элейской философией (Muller, Theosophie, 325-330) ограничусь ссылкой на мое изложение учений Ксенофонта и Парменида и следующей выпиской из «Теософии» Макс Мюллера: «Древнейшие элейцы достигли в сущности того же уровня мысли, как и старинные Упанишады. Те и другие исходят из религиозных идей и заканчиваются метафизическими понятиями, в обоих случаях достигнута наивысшая абстракция существующего - санскритское Sat (сущее), как единственной реальности. Те и другие учили, что разнообразие опыта сомнительно - феноменально, если не призрачно - и является результатом имени и формы. Но и различия существенны. Элейцы - греки, они твердо верят в личную индивидуальность, они мало говорят о душе и ее отношении к единому сущему, еще менее о способах соединиться с этим сущим… Психологические вопросы оттесняются у них на задний план метафизическими (можно добавить и космологическими) задачами, тогда как в Упанишадах психологический вопрос всегда стоит на первом плане».
Здесь идет речь не только о психологической истории, уже намеченной выше в главных чертах, но и о тех разнообразных социальных условиях, которые в высшей степени благоприятствовали развитию созерцательной философии, презирающей внешний мир и обращающейся к исследованию фактов самосознания. Самоуглубление может служить чисто научным целям лишь до тех пор, пока связь с окружающей действительностью не утрачивается, но когда оно приводит к отождествлению нашего сознания со всею вселенной - не в том только смысле, что вселенная познается нами, но путем простой подстановки себя на место всего окружающаго - то это приводит к системам, порою граничащим с фактами, исследованными новейшей психиатрией. (Это замечание будет впоследствии пояснено фактами)
В чем же искать условий, приводящих к господству созерцательного идеала? Прежде всего напомню об остроумной попытке Бокля выяснить главные особенности индийской цивилизации. Разбор взглядов Бокля представляет тем больший интерес, что здесь мы имеем дело с одним из капитальнейших вопросов социологии.
Считая невозможным доказать какое-либо коренное или врожденное различие человеческих рас, Бокль приписывает существенные различия между расами влиянию климата, пищи, почвы. Не следует забывать, что Бокль закончил первый том своего труда почти в то самое время, когда Дарвин издал «Происхождение видов», и хотя, несомненно, Бокль был эволюционистом, однако не в дарвиновском смысле слова, идеи Дарвина не повлияли на его труд (Бокль цитирует из сочинений Дарвина лишь первое изд. его «Путешествия на корабле Бигль». О личных отношениях между Боклем и Дарвином см. в Автобиографии Дарвина). Этим объясняется несколько преувеличенное значение, придаваемое Боклем климату и вообще физико-географическим условиям. Впрочем, Бокль не ограничивается повторением доводов писателей XVIII века и ставит вопрос шире: он рассматривает влияние растительной и животной пищи не только с физиологической точки зрения, но и с экономической, исследуя условия добывания или производства тех или иных пищевых продуктов. Исследование это приводит Бокля к гипотезе, что особенности климата и пищи привели в Индии к неравномерному распределению материальных благ, а эта неравномерность, в свою очередь, явилась основной причиной всех существенных особенностей индийской социальной организации, и сопутствующих ей чувств и идей. Он указывает, напр., на полное подавление низших классов, дошедшее до того, что здесь мы не видим «ни одного примера восстания против правителей, ни одной борьбы сословий, ни, одного народного восстания, ни даже значительнаго народного заговора», напоминает о постановлениях, относящихся к касте судров, вроде того, что «если судра прислушивается к чтению священных книг, то ему следует влить в уши кипящее масло». В другом месте, противопоставляя индийскую цивилизацию греческой, Бокль еще более расширяет влияние внешней среды, указывая на подавляющее величие природы, на грозные ураганы, на страшных хищников, на колоссальность Гималайского хребта, он пытается вывести отсюда существенные особенности умственнаго склада индусов в противоположность грекам и утверждает, что в Индии над всем господствует чувство ужаса.
Грандиозность образов индийской мифологии, по сравнению с греческой, несомненный факт, и, конечно, Бокль прав, ссылаясь в этом случае на явления природы, Но образ индийского мудреца далеко не представляется в виде придавленного, запуганного, не столько природою, сколько людьми, жалкого судры. Созерцательная жизнь брамина выработала типы совсем иного рода. Остается справедливым, что существование браминов стало возможным единственно благодаря рабскому подчинению массы населения. Рабство доставило высшим классам достаточный досуг для самоуглубления, в свою очередь, это подчинение значительно было облегчено физико-географическими условиями и характером пищи: при плодородии почвы народ должен был затрачивать на свое пропитание лишь ничтожную долю своего рабочего времени, а остальное время употреблял на доставление физических удобств и умственных досугов высшим классам. С другой стороны, хронические голодовки низших слоев населения могли влиять психически на углубившихся в себя мудрецов, до которых все таки доходили вопли голодающих, и это влияние играло немалую роль в, происхождении аскетизма и добровольного истязания плоти, по примеру тех мучений, которые испытывались низшими классами недобровольно. Известную роль здесь играла, кажется, и традиция, восходящая к древнейшим, до кастовым эпохам, когда какие-нибудь знахари, выходцы из народа, намеренно доводили себя голодом до экстаза, предварительно испытав действие голода, быть может вовсе не по доброй воле.
В строе индийского общества, кроме кастовых различий, были и другие условия, содействовавшие развитию созерцательной жизни. В высших классах грамотность была широко распространена, и каждый юноша подвергался обряду посвящения в ученики, после чего должен был изучать Веды и служить учителю, нередко выполняя самые тяжкие работы и изредка получая наставления, делаемые тоном оракула. Выше была приведена легенда об ученичестве бога Индры, длившемся сто один год: это преувеличенное изображение действительной жизни. Во все время пребывания у учителя ученик должен был соблюдать целомудрие и служить учителю, «как сын отцу», по окончании учения над ним совершали обряд купанья, и лишь тогда он мог основать свое хозяйство и жениться.
В семейной жизни, в свою очередь, господствовали вполне патриархальные начала, подавлявшие сознание индивидуальности. Основою экономических отношений была семейная община. Наконец, достигнув старости, «увидев лицо сына своего сына», глава семьи считался исполнившим все земное, и обычай требовал, чтобы он стал отшельником и ушел в лес, это быть может, является отголоском древнейшего обычая, когда престарелых родителей попросту: изгоняли или даже убивали. Существовала еще четвертая ступень святости, а именно состояние аскета, живущаго подаянием, ходящего полунагим, не приносящего более жертв, но только читающего Веды: эти аскеты и послужили предтечами буддизма. При такой общественной организации, не удивительно, что в высших классах появилось достаточное: число людей, для которых размышление о предметах, относящихся к нездешнему миру, стало своего рода профессией. Это должно было привести и к появлению в высшей степени утонченных систем, и в то же время к возникновению самых нелепых бредней. (Герман Брунгофер, в упомянутой статье (Научн.Обозр. 1894 г . стр.1125. примеч.3) подчеркивает келейность учения Упанишад.Упанишады. по его мнению означают тайное учение, и автор отвергает общепринятую теорию, производящую Упанишады от корня сад, тождественного со славянским конем сад (садиться). Брунгофер предполагает здесь исключенный корень чад, означающий скрыть (сравн. Славянское чад-дым, копоть)
Таинственность учения, сообщаемого, да и то отрывками, лишь сыновьям и ученикам, едва ли служит свидетельством в его пользу: истинное просвещение никогда не боялось света.
Конечный результат индийской философии, тождество человеческого самосознания с всемирным объектом, роковым образом приводить к тому, что человеческая, личность расплывается в блаженном созерцании божества. Правда, Упанишады утверждают, что кто достиг такого слияния с брахманом, тот становится родиной для всех людей, но едва ли в этом следует видеть всеобъемлющую любовь к человечеству, хотя такие тексты и могли, послужить опорою для позднейшего буддистского движения,
Наилучшие знатоки Упанишад вынуждены признаться, что возвышенная философия здесь образует лишь цветок в массе шипов и что порою приходится недоумевать, имеешь ли дело с здравомыслящими, или с сумасшедшими (L. ѵ. Schroder, Indiscbe Literaturgescli., 113).
Образчиком безумного бреда является следующий отрывок, приводимый Брунгофером, «Я пища, я пища, я пища! Я едок пищи, я едок пищи, я едок пищи! Я поэт, я поэт, я поэт! Я первенец настоящего. Еще богов не было, а я уже находился в центре всего бессмертного».
Обзор психологических источников метафизического реализма был бы не полон, если бы мы не указали на патологическую сторону явления. Не мешает поэтому указать и на некоторые данные, хотя относящиеся не к истории философии, а к психиатрии, но тем не менее проливающие свет на существенные черты весьма многих мистических учений.
Материал по этому вопросу дает «Исповедь бывшей душевнобольной», напечатанная несколько лет тому назад в московском философском журнале. («Вопросы философии и психологии» Сент. 1893 (кн. 19)).
Автор дневника - женщина, много мыслившая над вопросами религии и философии. «Я выросла, - пишет она, - в религиозной среде, и на все мои пытливые вопросы: что такое Бог, жизнь, смерть, зло, добро, - мне отвечали известными объяснениями... Помню, мне было семь лет. «Няня, что такое Бог»? - спросила я. - «Бог есть дух». - «А что такое дух, няня?». Няня подула и говорит: «Вот дух». Я окончательно ничего не понимаю... Вырастая и не находя ответа в людях... я бросилась к книгам».
Читая до обмороков все, что было под рукою, экзальтированная женщина, наконец, пришла к мысли, что, «невозможно понять Бога личного, громадного, абсолютного». Ей захотелось знать о материальном мире. Но тут явилось нечто сильнейшее всякой науки - любовь.
Вопросы исчезли, жизнь казалась раем. Зачем углубляться во вселенную?
Прошло несколько лет... жизнь пролетела, разбила все в дребезги. Несчастная женщина лишилась любимого человека... Оставалось одно доступное ей утешение - религия. Но и это не помогло. Она сошла с ума.
Описание сумасшествия превосходно. «Галлюцинации, - пишет бывшая душевнобольная, - суть мысли в образах и ощущениях, настолько кажущиеся реальными и живыми, что пугают и увлекают человека с страшной силой, вне действительной среды. Изменения в сфере всех чувств: зрения, осязания, обоняния, глазам представляются картины с красками при взгляде на гладкую стену, лица окружающих кажутся измененными, в ушах всевозможные звуки, - даже обонянию представляются разные запахи, наконец, испуганное и измененное обращение близких, - все это свидетельствует для больного об изменении его самого и окружающего мира, - и вот является такая тоска по утраченному, жажда простого, вседневного, будничного и страшно милого! А мания величия? Она является от сознания грандиозности галлюцинаций. Я желала упиваться тем, что все могу понимать и знать, чего другие не знают, все проникла, пронизала, схватила жизнь за хвост. В этом бреду есть свое упоение. У сумасшедшего сознания окружающей его действительности нет, но самочувствие, способность страдать есть, и даже страшно напряженная и возвышенная».
Здесь были пройдены все стадии от наивного реализма и анимизма до мистического экстаза. «Лесные мудрецы» древней Индии, конечно, не были сумасшедшими в настоящем смысле слова, но, во всяком случае, их нормальное состояние представляло значительные аналогии с патологическим, и удивляться этому нечего, если принять во внимание одиночество, изнурение плоти, постоянное погружение в свои мысли. Расстройства чувственной области здесь были неизбежны, не менее неизбежным было и расстройство нормального самосознания. Стараясь все более и более освободить ум от впечатлений внешнего мира, мудрец кончал тем, что связи между собственными мыслями принимал за внешний объект, так как мысль его оперировала исключительно над такими связями и соотношениями. Отсюда являлось не только реализирование абстракций, но под конец и смешение своей личности со всею вселенной, чему в значительной мере способствовало, как и у душевнобольных, страшно напряженное и повышенное самочувствие.