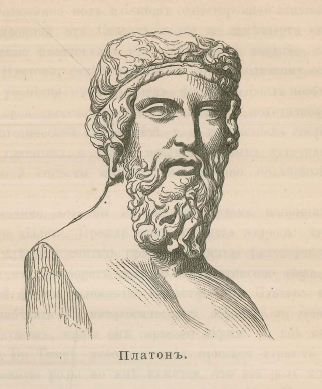
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА II.
Греческий идеализм и его отношение к естествознанию.
Платон. Его учение о мировой душе. Отношение космологии Платона к его учению об идеях.
Не впадая в особое преувеличение, можно было бы сказать, что настоящие история греческой философии начинается с Платона. Сведения наши о предшествующих философах так отрывочны, да и самые учения этих философов так еще необработаны, что во многих случаях приходится ограничиваться только догадками. Философия Платона, наоборот, может быть изучена почти с такою же полнотою, как и учение любого из новейших мыслителей. Если в ней и есть трудности, то их еще больше у многих философов XIX века.
Историки философии часто указывают на ту „счастливую случайность", что сочинения Платона дошли до нас в полном виде; можно даже добавить—слишком полном, потому что под именем Платона изданы и некоторые, несомненно ему не принадлежащие произведения, Замечу, однако, что факт сохранения всех сколько-нибудь выдающихся произведений Платона едва ли может быть отнесено на счет простой игры случая, в особенности если мы сопоставим его с гибелью таких важных для истории мысли трудов, каковы произведенья Демокрита или хотя бы Протагора. Это лишь одно из доказательств огромного влияния, оказанная Платоном на умы ближайших и более поздних поколений. Трудно вообразить себе историю позднейшей греческой философии и многих христианских философских учений, если бы не сохранились сочинения Платона.
По литературному таланту Платон значительно превосходил своего великого ученика и частью противника—Аристотеля. Если исключить наиболее ранние диалоги Платона, в которых еще видна неопытность и сверх того безыскусственность, отчасти обусловленная сдерживающими влиянием Сократа, то, конечно, немного можно указать произведены философской литературы, настолько законченных в художественном отношены, как диалоги Платона. Я говорю не только о собственно поэтических местах, —в некоторых диалогах их немного, —но о всем построены и способе изложения. Что же касается блестящего остроумия Платона, достаточно указать хотя бы на диалог Феэтет.
Не стану подробно останавливаться на литературной характеристике произведений Платона; мне придется оставить в стороне и почти все содержание его философы. Сравнительно несложную задачу представляет выяснение отношения Платона к естествознанию—но только эта задача и может войти в рамки настоящего очерка. Если раньше мне приходилось несколько выходить из этих рамок, такие экскурсы обусловливались самой расплывчатостью и отрывочностью более ранних философских систем, в которых естественнонаучный элемент постоянно смешивался с теорией познания и с этикой, а порою отбрасывался совсем, как у некоторых софистов и у Сократа. У Платона мы видим, наоборот, вполне определенное разграничение между естествознанием и тем, что он считал гораздо высшим, чем естествознание, а именно учением об идеях. Правда, зачатки такого отделения философии от физики замечаются уже у элейцев: в свое время было показано, что Парменид отличал физические вопросы от онтологических и выставлял положения о „неизменном бытии" в гораздо более догматической форме, нежели свои физические теории. Но у Платона это разграничение далеко резче и определеннее. Платон прямо заявляет, что вопросы о физическом мире могут быть разрешаемы лишь с известной степенью вероятности, тогда как вопросы, относящиеся к миру идей, должны разрешаться в безусловном смысле при посредстве диалектического метода.
Задача изучения космологических гипотез Платона в значительной мере облегчается тем, что в ранних его произведениях, несомненно под влиянием односторонней этической точки зрения, усвоенной от Сократа, вовсе не замечается склонности к обсуждению физических вопросов. Лишь позднее, после путешествий Платона, содействовавших более близкому ознакомлению его с учениями пифагорейцев, философ счел необходимыми дополнить свои гносеологическая, этические и политические теории также гипотетической космологией, т. е. изложением системы мира, при чем главными и почти исключительными источником для изучения этой системы является несомненно подлинный диалог „Тимей".
Необходимо, хотя бы в общих чертах, напомнить содержание этого диалога. Прежде всего является вопрос: что именно в Тимее следует считать принадлежностью философского учения Платона и что, наоборот, должно быть отнесено лишь на счет поэтической формы изложения? Известно, что Платон постоянно любил прибегать к мифологическим образами и, конечно, никто не допустит, чтобы он серьезно верил во все излагаемые им мифы. В Тимее мифологические примеси играют, без сомнения, важную роль: но мне кажется, что эта роль иногда преувеличивалась новейшими историками философии. Если отбросить некоторые подробности, рассказанные Платоном от имени египетских жрецов, и некоторые другие поэтические прикрасы и преувеличения, то едва ли хотя одно из положений, высказанных в Тимее, можно счесть намеренно введенной мифологической примесью. Когда мы видим, что Аристотель серьезно полемизирует с взглядами, которые новейшими критиками относятся к „мифологическим примесям", то еще является вопрос, как относился сам Платон к этим мифам.
В высшей степени трудно допустить со стороны Аристотеля, непосредственного ученика Платона, такое непонимание, чтобы он принял за чистую монету то, что, по мнению новейших историков, имеет характер намеренно подобранного мифа.
Мнение Аристотеля, а также тесная связь „Тимея" с другими произведениями Платона позволяет мне придавать этому произведению далеко не второстепенное значение в ряду сочинений Платона. Гипотетический характер его космологии также едва ли лишает ее интереса, так как, во всяком случае, Платон несомненно считал свою гипотезу наиболее вероятною из всех возможных и относился к ней, как к неизбежной составной части своей философии.
В самом начале „Тимея", мы находим ясно поставленный вопрос о различии между физическим миром, познаваемым при посредстве чувственного восприятия, и миром метафизическим, познаваемым посредством разума. Этот последний мир вечен и всегда тожествен сам с собою. Только чувственный мир, рождающийся и гибнущий, но по Платону не существующей в настоящем смысле этого слова, характеризуется господством закона необходимой причинности, которую Платон отличает от причинности божественной.
Характерную особенность космологии Платона, отличающую ее от учений древних физиков—не исключая ближайшего к нему по времени Анаксагора — составляет именно это разграничение естественного от божественного. Мы знаем уже, что „ум" Анаксагора был только первым двигателем, устроившим мир и затем не принимающим никакого дальнейшего участия в явлениях природы. Платон не довольствуется этим: для него божественная деятельность, работа демиурга строителя или творца вселенной, представляет непрерывный источники целесообразности всего существующего. Миру приписывается чисто этическое начало. Божество создает мир, желая вывести его из хаотического состояния. Не чувствуя ни к кому и ни к чему никакой зависти и обладая способностью творить лишь прекрасное, творец пришел к мысли, что неразумное не может быть прекраснее того, что обладает умом, а так как ум, по Платону, не может явиться помимо души, то Платон и вселил ум в душу, а душу в тело. Поэтому, говорит Платон, если судить на основании вероятности, следует допустить, что мир, по замыслу божества, произошел, как живое существо, одушевленное и обладающее умом, в настоящем смысле этого слова.
Вселенная представляется, поэтому, Платону не механизмом, а организмом, живым существом. Платон пытается описать в общих чертах строение этого животного. В этом случае, как и почти везде, у него на первом плане стоят доводы телеологического и эстетического характера. Вселенная не может быть подобна какой-либо части или органу, так как отдельно взятая часть несовершенна, незакончена и не прекрасна. Наоборот, все прочие живые существа, взятые как порознь, так и по родам, должны составлять части этого всеобъемлющего организма. Образчики, по которому творец создали этот мир, должен заключать в себе все вообще мыслимые живые существа. Мы находим у Платона чисто логическое, или даже чисто словесное, доказательство положения, по которому может существовать лишь один мир: будь их два, мы могли бы мыслить нечто единое, объемлющее оба мира, и тогда это единое заслужило бы название настоящей вселенной. Платон не замечает всей бессодержательности своего положения, хотя оно, при некотором видоизменении, действительно могло бы приобрести известное содержание. Отвлеченное единство вселенной есть просто следствие определения данного понятия, и ничего нового к этому определению не прибавляет; иное дело, если бы Платон учил о единообразии физических законов во всех доступных опыту частях или областях вселенной: в таком случае он мог бы приблизиться к миросозерцанию вроде того, которое позволяет теперь астрономам применять законы, доставленные изучением солнечной системы, к исследованию движений двойных звезд. Намеки на учение о единообразии законов природы, скрывающиеся в философии Платона, не могли получить широкого развития именно благодаря господству телеологического принципа.
Построение вселенной у Платона зависите от тесного сочетания начала необходимости с началом божественной воли, причем последняя везде играет роль руководящего начала. Все происшедшее в силу необходимости, по естественными законами, должно быть телесно и доступно чувствами, т. е. видимо и осязаемо и это положение служит Платону исходной точкой для построения. четырех элементов. Помимо огня не может произойти, по мнению Платона, ничего видимого, а помимо чего-либо твёрдого — ничто не осязаемо; твёрдого же не может быть без земли. Поэтому все телесное, что только сделано богом, должно состоять из огня и земли. Выведя, таким образом, чисто логическими путем существования двух стихий, Платон сделал попытку вывести и остальным две; это понадобилось ему, конечно, по той причине, что учение Эмпедокла о четырех стихиях во времена Платона считалось таким же приобретением человеческого знания, какими мы считаем, напр., учение о вращении земли, и весьма немногие возвращались к более древним представлениям б воде или огне, как единственной стихии. Вопрос о происхождении двух остальных стихий Платон пытается решить чисто математическими путем: известно, какое высокое значение он вообще придавал математике. Связать два в нечто единое, по словам Платона, невозможно без чего-либо третьего, а такая связь дается, по его мнению, геометрической пропорцией. Если бы мир был плоским, то оказалось бы достаточным одного среднего пропорционального, но так как мир обладает глубиною (т. е. третьим измерением) и стало быть представляет объём, то между двумя крайними членами приходится вставить два средних пропорциональных. Отсюда Платон и выводит необходимость вставить между огнем и землею — воздух и воду по непрерывной пропорции: огонь: воздуху воздух: воде = вода к земле.
Платон требовал от своих слушателей, чтобы они не входили в его школу, не изучив геометрии. Такое требование необходимо предъявить и современному читателю Платона. Здесь ограничимся лишь кратким пояснением. Между двумя квадратными числами и, вообще, числами, соответствующими двум измерениям, всегда можно вставить среднее число, т. е. среднее пропорциональное, напр. 2X2: 3X2=3X2:3X3 или 4:6=6: 9; между двумя кубическими числами и, вообще, числами трех измерений, можно вставить два средних пропорциональных, напр. между 4X6X8=192 и 6X9X12=648 можно вставить два средних 288 и 432, при чем получится 192: 288=288: 432=432: 648. Некоторых комментаторов Платона () затрудняет то обстоятельство, что Платон выражается таким образом, как будто между двумя объёмами никогда нельзя вставить одного среднего пропорционального, что неверно, потому что напр. между 23 и 83 можно вставить не только два средних члена, но и одно, именно 43, и сомнительно, чтобы Платон не знал этого. Но Платон, по-видимому, хотел сказать, что там, где есть два связующих звена, их только и следует принять во внимание; хотя надо сознаться, что это выражено у него крайне неясно. Буквальные слова Платона () ().
„Составитель" мира, по выражению Платона, образовал мир из стихий, таким образом, что истратил их на это целиком, не оставив вне „ни одной части чего-либо и никакой силы". Разумеется, и для этого у Платона существуете телеологическое объяснение. Прежде всего, мировой организм должен быть как можно более законченным, а поэтому он должен состоять из законченных частей; затем, если бы вне мира осталось что-либо, то эта внешняя среда скрывала бы в себе источник болезни и гибели мирового организма, так, как и жар, и холод, и другие внешние влияния, действуя несвоевременно, приводить организм к разложению и гибели. Форма мирового организма придумана Платоном такою, чтобы, по возможности, устранить всякое расстройство; по мнению Платона, для этого надо допустить, что мировой организм имеет вид совершенно однородного шара, так как однородное „в десять тысяч раз прекраснее неоднородного". Внешняя поверхность мирового тела представляется Платону совершенно гладкою, так как тело это не должно находиться в каком-либо отношении к внешней среде или, по образному выражению Платона, мировое тело не нуждается ни в глазах, так как вне его не остается ничего видимого; ни в ушах, потому что вне его нет ничего слышимого; ни в органах дыхания, так как вокруг него нет воздуха. Мир не питается чем-либо извне, но пищу ему доставляет его собственное разрушение. Наконец, из всех возможных движений, мировому телу, как целому, свойственно наиболее совершенное движение, а именно круговое, т. е. вращательное.
Это мировое тело, однако, явилось не прежде, а после мировой души, которая управляет телом, как госпожа—слугою, или начальница—подчиненным. Распределение этой мировой души во вселенной поясняется Платоном при помощи настолько конкретных образов, что некоторые исследователи причисляют это описание к мифологическим элементам „Тимея"; согласиться с этим мнением трудно, и гораздо правильнее допустить, что здесь играет роль просто пластическая художественная фантазия, свойственная некоторым древнегреческим философами наравне с поэтами и скульпторами.
(), т. е. тела же никогда не связываются одною серединою (среднею величиною), но всегда двумя; вероятно здесь следует подразумевать: только одною, и получится тот смысл, что там, где всегда возможно найти два звена, существование или не существование одного звена не играет роли.
„Мировая душа" Платона очевидно представляет, в пластической форме, воплощение мирового закона, управляющего едиными космосом; и так как, из всех законов природы, прежде всего поражает ум правильность движения светил, то и не удивительно, что основной закон природы представлялся Платону, главными образом, с астрономической точки зрения. Пластичность описания Платона станет нам еще понятнее, если вспомним, что он прямо имел в виду упоминаемые им в одном месте модели небесных сфер; такие модели были употребляемы греками с очень давнего времени и, между прочими, их искусно делал математик Эвдокс, приятель Платона. Распределение мировой души во вселенной, как оно описано Платоном, положительно имеет связь со способом сооружения моделей: так, Платон рассказывает, что строитель мира сложил два отрезка в виде буквы X, согнув эти отрезки в круги, при чем получилась модель, изображающая небесный экватор и эклиптику. Впрочем, это сооружение сопровождается смешением, представляющим чисто метафизический характер. Строитель мира берет некую неделимую и всегда себе тожественную сущность и смешивает ее с делимою телесною сущностью; из этой смеси получается среднее между сущностью, всегда себе тожественною, и изменчивою сущностью, или, по выражение Платона, получается нечто, обладающее как природой тожественного, так и природой иного (т. е. изменчивого): этот состав и образует мировую душу, совмещающую в себе, как сказано, начало постоянства с началом изменчивости. Такая своеобразная субстанция, образованная еще раньше, чем были созданы телесные элементы, была разделена и распределена в небесных сферах, а расстояния между сферами регулированы при посредстве гармонических чисел: эту часть своей системы Платон заимствовал у пифагорейцев, особенно у Филолая, переработав ее, однако, в согласии со своим собственным телеологическим учением. Мировая душа Платона является, поэтому, не только воплощением математической законообразности (которая и сама выводится из мыслей строителя мира), но и „участницей мышления и гармонии". Она в одно и тоже время управляет движением светил и является источником всякого мышления или знания; при своем равномерном вращательном движении, душа, соприкасаясь с чем-либо иным, „открывает, чему это тожественно и от чего оно отличается". Таким образом, Платон пытается решить заодно и вопрос о единообразии законов природы и о происхождении понятий, относящихся к этому единообразно. Основными понятиями, без которых не может обойтись естествознание, являются понятия о пространстве и о времени. Посмотрим, как оба эти понятия выяснены Платоном. Учение Платона, в общем, представляет противоположность тем учениям, которые рассматривают вселенную, как продукт того или иного процесса эволюции. В понятие эволюции входит, как существенный элемент, время; не удивительно, что Платон, интересовавшийся в гораздо большей степени гармонией вселенной, нежели вопросами генезиса, дал довольно сбивчивые определения того, что, по его мнению, должно считаться временем. От этой сбивчивости зависят и разногласия между старинными н новейшими комментаторами Платона, причем можно указать и на мнение, что Платон считал вселенную чем-то вечным, — и на утверждения противоположного характера, приписывающие ему теорию происхождения мира во времени. Вопрос, по-видимому, разрешается вполне определенно указанною выше противоположностью между миром идей и миром чувственного опыта. Можно было бы предположить, что мир идей вечен и свободен от условий времени в такой же мере, в какой он, по прямому смыслу учения Платона, свободен от условий пространства; с другой стороны, несомненно, что чувственный мир, по Платону, представляется нам в пространстве и во времени. Вопрос, однако, далеко не так прост, если примем во внимание все особенности философии Платона. Самое учение об идеях подает поводы к некоторым недоразумениям; но сверх того, в учении Платона, мир идей, не смотря на полную противоположность с миром чувственного опыта, не разграничен от этого последнего непроходимой бездной, но связан с ним, с одной стороны—мировой душою, с другой — первичною материей, которая самим Платоном выставляется как нечто среднее между идеей и явлением.
Бесспорно, что, по Платону, все чувственное, все доступное представлению или воспринимаемое „мнением", оказывается происшедшим или рожденным в силу законов необходимости; но переходя к учению о мировой душе, Платон дает понять, что и самое время, представляющее лишь „подвижный образ вечности", возникло вместе с чувственным миром и при том так, что течение или, по Платону, численное приращение времени определяется движением светил. В другом месте, рассуждая о единстве вселенной, Платон утверждает, что творец создал не два и не много космосов, „но есть и будет одно единородное небо". Здесь нельзя не видеть подражание известной формуле Гераклита о вечноживущем огне,—лишенной однако, её динамического и эволюционного характера. Платона вообще мало интересует элементы прошедшего, для него мир есть нечто данное, некоторая гармония, которая существует и будет существовать. Если же он и пытается исследовать то, что было „до рождения неба" то и в этом случай мировая эволюция у него не играет роли, а снова идет речь о различии между созданием разума и тем, что произошло в силу необходимости, причем оказывается уместным разложить существующий космос на его составные элементы и выяснить его образование из этих элементов чисто геометрическим путем, совершенно не прибегая к понятию времени и основываясь исключительно на свойствах пространства.
После этого становится понятным и своеобразное учение Платона о материи, находящееся в тесной связи с его учением об элементах; последнее, хотя и было в значительной мере заимствовано от пифагорейцев, явилось у Платона в преобразованном виде и должно считаться существенною частью его космологии. Платон нигде еще не употребляет технического выражения, обозначающего материю и играющего значительную роль в сочинениях Аристотеля. Говоря о материи, Платон прибегает к длинным описательным выражениям, называя ее напр. приемником всякого рождения, как бы кормилицей чувственного мира. Он сам от себя не скрывает трудности вопроса и несколько раз подчеркивает, что относительно этого начала, промежуточного между идеей и её чувственным образом, высказаться очень трудно, и что трудность увеличивается необходимостью указать, какое соотношение существует между этой первичной материей (повторяю, что самый термин этот вовсе не встречается у Платона) и так называемыми стихиями или началами видимого мира. Во всем своем рассуждении о первичной материи, Платон берет за исходную точку, во-первых, чисто логические обобщения, во-вторых — физический факт взаимной превращаемости стихий, всецело допускаемый им, как будет ясно из дальнейшего, только для трех легчайших элементов. Что же касается тяжелейшей стихии — земли, то хотя, по Платону, она не переходит в другие стихии, во всяком случае может получаться из них путем сгущения—теория, заимствованная еще от древнейших философов и основанная на наблюдении образования осадков. Вода, разлагаясь и разрежаясь, по словам Платона, становится ветром и воздухом, воспламенившийся же воздух—огнем; сжатый и погашенный огонь становится воздухом, а сжатый и сгущенный воздух — облаком и туманом, а при еще большем сгущении — водою. Весь этот круговорот стихий (выражение самого Платона) служит доказательством, что ни одна из них не может признаваться определенною сущностью. Нет возможности утверждать, что какая-либо стихия есть именно то, а не другое, потому что она, при известных условиях, может стать иным. Поэтому Платон настаивает на разъяснении, которое может нам показаться пустою грамматическою тонкостью, но на самом деле служит сокращенною формулировкой всего предыдущего рассуждения. Он говорить, что никогда не следует называть, напр. огонь этим огнем, но в каждом случае следует говорить лишь о таком огне: другими словами, название огня следует придать не какой-либо определенной сущности, а совокупности свойств, зависящих от изменчивых условий. Не следует, говорит он, принимать стихии в значении предметов, обладающих известным постоянством.
Является вопрос: существует ли постоянное начало, принимающее лишь временные формы огня, и т. п., подобно тому, как одно и то же золото, постоянно переливаемое в разные фигуры, принимает те или иные формы, не переставая быть золотом? Можно было бы подумать, что Платон решит этот вопрос подобно Гераклиту, ограничившись указанием на вечную подвижность всего телесного и признав одну какую-либо стихию первичным началом по отношению к остальным. Но Платон не мог удовольствоваться таким решением, так как для него ни одна из стихий не представлялась существующею самой по себе, да и вообще весь мир явлений не указывал никакого промежуточного звена, могущего связать его с миром идей. Оставалось одно из двух: или доказывать полную разобщенность двух независимых миров, или искать промежуточного звена. Последнее было естественнее уже потому, что Платон вовсе и не допускал двух миров, в настоящем смысле слова. Только вечные, неизменные, всегда себе тожественные идеи были для него настоящими сущностями, явления же представлялись призрачным отражением или тенью мира идей, а никак не другими миром, равноправными с первым. Всего проще было поэтому искать начала, в котором призрачные явления могли бы прийти в соприкосновение с вечными идеями—и такое начало представляет платоновская материя. Её роль состоит в том, чтобы служить материалом для образа, т. е. для того изображения идеи, которое представляет призрачное и изменчивое явление. Сама по себе невидимая и бесформенная, материя в этом отношении имеет характер начала, постигаемого только разумом, и примыкает, стало быть, к идеям, существенно отличаясь от них, однако, тем, что служит приёмником или вместилищем чувственно воспринимаемых вещей. Но так как разум открывает нам только вечные истины, тогда как материя есть вместилище изменчивых призраков, то отсюда возникла для учения Платона особая трудность: пришлось придумать и особую познавательную способность, хотя сходную с разумом, но всё же имеющую обманчивый характер, и Платон прямо заявляет, что мы познаем вместилище чувственных явлений при посредстве некоторого обманчивого или поддельного суждения
().
Эта кормилица или восприемница всего чувственного обладает почти исключительно характером пространства. Тем не менее, я признаю крайностью мнение Целлера, который считает возможным прямо утверждать, что под материей Платон подразумевал только пространство и более ничего. Чтобы доказать это, Целлеру приходится прибегнуть к совершенно произвольному разграничению между философской и мифологической частью учения о пространстве, причем он причисляете к мифическим элементам все, что противоречит его взглядами на учение Платона. Но путем этого приема можно, конечно, доказать любое положение. Прямой же смысл утверждений Платона показывает, что, хотя, действительно, свойство протяжения представлялось для него основным свойством материи, однако он не считал „кормилицу всего рождаемого" совершенно свободною от всяких сил и всяких вообще свойств, исключая свойства протяжения, но, наоборот, видел в ней некоторое хаотическое смешение сил, неоднородных и неуравновешенных, вследствие чего и сама она не обладает равновесием ни в какой из своих частей. При отсутствии же равновесия, всюду происходят непрерывные сотрясения, разъединения и разбрасывание частей. Для упорядочения этой бесформенной хаотической материи и была придумана „ мировая душа", которая содействовала тому, что из хаотического смешения сначала выделились элементы, а из этих последних сложились все предметы телесного мира.
Видеть и в этом «мифологические образы» я не вижу ни малейшего основания, каково бы ни было сходство этой теории с мифами о хаосе.
Процесс образования элементов имеет у Платона, действительно, чисто геометрический характер; однако, из этого еще
нельзя вывести, что тот материал, из которого, путем геометрических построений, получаются элементы, сам по себе представляет лишь пустое пространство. На самом деле, рассуждения Платона об образованы элементов во многом аналогичны соображениям новейшей кристаллографии и частью новейшей химии (особенно так наз. стереохимии), так как и в этих случаях из тех или иных геометрических построений выводятся некоторые свойства, которыми обладает не пустое пространство, а нечто доступное нашим чувствам. Само собою разумеется, что у Платона представления о зависимости между геометрическими фигурами и физическими свойствами тел не могли быть разработаны, но все же нельзя утверждать, чтобы он рассматривал и материю, как совершенную пустоту.
Геометрические формы, служащие для образования элементов, это правильные многогранники, за исключением лишь додекаэдра. Нечего и говорить, что соответствие, установленное Платоном между четырьмя фигурами правильных многогранников и четырьмя стихиями, отличалось по преимуществу логическим характером и имело лишь ничтожную опытную подкладку. В этом убеждают все его рассуждения, основанные на искусном подведены самых грубых и обыденных наблюдений под известный логический, выводи. Из четырех стихий самая твердая, устойчивая и плотная это земля; поэтому ей должна соответствовать фигура, обладающие наибольшей устойчивостью, а именно—куб. Воде соответствует та из правильных фигур, которая наиболее приближается к форме шара, а именно икосаэдр (правильный двадцатигранник). Здесь опять мы видим,—в основе, по-видимому, совершенно априорные соображения,—грубое наблюдение над шаровидными каплями воды и, быть может, над ледяными крупинками. Как это и бывает в большей части случаев, априорный метод отличается от методического лишь тем, что берет в основу обыденный, грубый опыт, не сознавая, впрочем, этой основы. Известно, что Платон один из первых расширил геометрические исследования, которые начались с планиметрических задач, занявшись, по следам пифагорейцев, вопросами стереометрии: полагают даже, что самое название стереометрии придумано Платоном. Отсюда понятно увлечение новыми задачами и стремление применить их всюду. Геометрические познания Платона были, по всей вероятности, уже достаточны для того, чтобы определить напр. принадлежность кристаллов снега, по крайней мере, к системе, отличающейся от той, которая включает куб, октаэдр и тетраэдр; но прийти к форме икосаэдра он мог исключительно априорным путем, и при том на основании грубого, неметодического опыта, путем сопоставления различных правильных многогранников с шаром, при чем шаровидная форма водяной капли была дана обыденным наблюдением. Следует, однако, заметить, что мы не вправе предъявлять к Платону слишком больших требований: определение кристаллической формы напр. снега и теперь, при необычайной точности методов измерения, оказывается делом не легким, хотя разумеется мы знаем, как знал уже Кеплер, что снеговые кристаллы принадлежат к гексагональной системе: но измерение углов представляет здесь огромные трудности, и Платону было вполне простительно считать основною формою воды фигуру, по-видимому, наиболее соответствующую наблюдению.
Что касается геометрических форм других стихий, здесь, по-видимому, мы имеем дело с чистейшей фантазией, без малейшего опытного основания; можно спросить, какое наблюдение могло указать Платону напр. на тетраэдральную форму огня, на кубовидную форму земли или, наконец, на октаэдрическую форму воздуха? Однако, сам философ раскрываете опытные основы своих выводов, разумеется весьма грубые и несовершенные. Так напр. огню приписывается форма тетраэдра единственно на том основании, что из всех правильных тел эта фигура наиболее остроконечна, обладает наименышим числом граней и, как думает Платон, отличается наибольшей подвижностью и наименьшей устойчивостью. В оправдание Платона следует здесь сказать, что главная его ошибка состояла в смешении схематического изображения с реальностью. Как схема неустойчивости, подвижности и способности проникать в другие тела, тетраэдр был бы еще кое-как допустим. Однако, подобное смешение схем с реальными соотношениями не чуждо и новейшей науке: так напр. не все новейшие ученые достаточно ясно сознают, что такая схема, как шестиугольная форма бензолового ядра, тетраэдральная форма атома углерода с его четырьмя атомностями и т. п., не более как схемы, вовсе не выражающие действительного расположения атомов или же направления молекулярных сил, но просто служащие для сокращенного обозначения данных химического анализа и синтеза. Так и у Платона, стремление схематизировать некоторые грубые наблюдения над подвижностью, плотностью, твердостью, прочностью тех или других веществ привело к приписыванию частицам этих веществ тех или иных геометрических форм, по-видимому всего лучше выражающих те или иные физические свойства. Однако, это сопоставление и геометрических форм с физическими свойствами тел было само по себе шагом, в высшей степени важным; и тот несомненный факт, что сам Платон сознавал некоторую зависимость между геометрической формой и совокупностью физических свойств, мне кажется, служит опровержением крайних взглядов Целлера, по которыми Платон будто бы отожествлял материю с пространством и, сообразно с этими, строил элементы исключительно путем ограничения пустого пространства теми или иными площадями, т. е. гранями. Рассуждая по примеру Целлера, пришлось бы сказать, что и новейшие кристаллографы, а тем более химики, доказывают своими геометрическими построениями, будто они признают материю тожественной с абсолютной пустотою. То обстоятельство, что сам Платон часто говорить о материи, как о чем-то несуществующем, ровно ничего не доказывает, так как, с точки зрения Платона, настоящее существование свойственно лишь идеям, и все вообще телесные предметы, несомненно отличающиеся от пустого пространства и действующие на чувства, тем не менее вполне призрачны, стало быть реального существования не имеют.
Из предыдущего ясно, что в космологии Платона правильные многогранники играют почти ту же роль, как атомы древней и частью даже новейшей физики. Платон утверждает прямо, что напр. телесная форма пирамиды должна быть „элементами (стихией) и семенем огня" и что эту форму следует мыслить настолько малою, что, взятая в отдельности, она не доступна нашему зрению: мы видим только массы или скопления таких элементарных многогранных частиц.
Раз была выведена та или иная структура элементов, из которых составились стихии—в том смысле, как их понимали Эмпедокл и другие древние физики—математический ум Платона не мог на этом остановиться. Платон пытался, уже чисто арифметическим путем, найти соотношение между различными основными формами. Сравнивая число граней правильных тел, он думал этим путем найти соотношения между стихиями и определить их взаимную превращаемость; двадцатигранная форма воды дает, по мнению Платона, 2 /9 части воздуха, так как этому последнему соответствует восьмигранная форма; октаэдрическая форма воздуха таким же образом разлагается на два тетраэдра. Последнее Платон мог бы вывести и иначе, чисто геометрическим путем, заставив пересечься поочерёдные грани октаэдра и получив таким образом две гемиэдричные формы, из которых каждая была бы тетраэдром. Я, однако, вовсе не намерен приписать Платону даже намек на понятие о гемиэдрии: его способ получения двух тетраэдров из одного октаэдра был, очевидно, вполне элементарен и груб, так как основывался просто на сосчитывании граней. Такое же сосчитывание позволило Платону утверждать, что пять частей огня дают одну часть воды (пять тетраэдров дают один икосаэдр). Считаю необходимым подчеркнуть, что эти фантастические превращения огня в воздух, воздуха в воду и т. п., придуманы вовсе не таким уже чисто умозрительным путем, как кажется. Здесь снова Платон, сам того не замечая, выдает тайну своего априоризма, состоящую в грубом наблюдении над различными переменами физического состояния. Конечно, простейшее наблюдете над явлениями испарения привело его к утверждению, что „вода, будучи разложена огнем или также воздухом" (т. е. испаряясь) и распавшись таким образом на свои „элементарные" частицы, при воссоединении этих частиц может составить „одно тело огня" или „два воздуха". Что касается превращения парообразной воды в воздух—здесь не надо особых объяснений, так как пар, очевидно, считался связующим звеном между водою и воздухом; получение же огня из воды, вероятно, выводилось из наблюдений над явлениями грозы. Таким образом, система, по-видимому выведенная из чисто априорных, именно арифметических соображений, в сущности была грубою математическою формулировкой простейших метеорологических наблюдений. Насколько в этих соображениях Платона играл роль обыденный опыт, доказывается уже тем обстоятельством, что Платон, рискуя нарушить стройность системы, не допустил неограниченной превращаемости только для одной из стихий,— именно земли. Платон указывает напр. на необходимость различать плотную землю от неплотной и утверждает, что первую разрушает только огонь, вторую только вода, причем, во всяком случае, разъединённые части земли могут вновь образовать только землю, а в другой вид перейти не могут. Он приводит также ряд соображений относительно разлагаемости тел, состоящих из смеси разных стихий—напр. веществ, состоящих из земли и воды—причем главную роль в этих рассуждениях играет величина и форма частиц, составляющих как данное тело, так и действующие на него разрушительные стихии; подлежащие объяснению свойства, как напр. плавкость различных тел, при этом, очевидно, взяты из опыта, а не выведены априорно. Математический метод, конечно, не всегда враждебен опыту и часто служить могущественным подспорьем, выводя из опытных данных то, что иначе не могло бы быть получено из них. Но тот же прием представляет почву, в высшей степени опасную в том случае, если методический опыт заменяется скороспелыми схемами, выведенными из грубых ненаучных наблюдений; а именно это мы и видим в большей части физико-математических объяснений Платона.
И тем не менее мысль о математическом объяснении природы, впервые определённо формулированная пифагорейцами, но еще далее развитая Платоном, настолько плодотворна, что это одно ставит Платона в ряды философов, содействовавших развитию научного миросозерцания, как бы ни были ненаучны некоторые из его собственных приемов.
Одним из физико-математических приемов является у Платона введение элементов, еще более простых, чем многогранники, а именно треугольников. Самые многогранники получаются путем ограничения известной области пространства треугольными гранями. В этом случай Платон желает быть вполне последовательным, и поэтому отбрасывает правильный додекаэдр, как фигуру с пятиугольными гранями, и ограничивается теми четырьмя правильными телами, которые обладают треугольными или же квадратными гранями. Этим он отличается от пифагорейца Филолая, который, оставаясь на чисто геометрической почве, не считал додекаэдр существенно отличным от прочих правильных тел. Что касается Платона, то не следует забывать, что его теория, хотя исходящая из геометрических данных, не есть чисто математическая, но вместе с тем физическая и даже эстетическая: он различает не только равно сторонние, равнобедренные и т. п. треугольники, но и треугольники более или менее прекрасные, при чем правильность и известная пропорциональность признается первым условием красоты. Из неравносторонних треугольников прекраснейшим оказывается, по Платону, тот, у которого меныший катет равняется половине гипотенузы; такие прямоугольные треугольники получаются, если опустим перпендикуляр из вершины равностороннего треугольника на его основание Конечно, нет никакой надобности принимать, вслед за Мартеном, что Платон говорил собственно не о треугольнике в математическом смысле слова, но о „тонких листках из телесной материи", точно так же, как никто не скажет, чтобы новейший кристаллограф рассуждая о тех или иных кристаллических гранях, подразумевал нечто вроде стен из картонных моделей. Тем не менее кристаллограф был бы удивлен, если бы ему сказали, что он представляет себе кристаллы образованными из геометрических поверхностей, ограничивающих пустое пространство. Поэтому я не могу согласиться с Целлером, который именно в ограничении тел треугольниками видит решительное доказательство в пользу своих взглядов на Платоновскую материю. Правда, в другом месте Тимея, у Платона можно найти утверждение, из которого видно, что он материализирует свои треугольники: он говорит о столкновении и борьбе между треугольниками и вообще рассуждает о них, как бы о телах трех измерений, т. е. как о чем-то материальном. Он говорит, например, об особенно твердых треугольниках, входящих в состав мозга. Но почему не допустить, что речь идет о материальной поверхности элементарных частиц, входящих в состав мозга? Разве современная механика, рассуждая напр. о движении шара на материальной плоскости, не поступает такими же образом, упоминая о плоскости, как будто она существует сама по себе, не ограничивая никакого тела: никому, однако, не придет в голову утверждать, чтобы тяжелый шар мог давить на математическую твердую поверхность, ограничивающую не тело, а пустое пространство, так как физически подобная система не осуществима. Нет особого основания допускать, чтобы Платон подразумевал твердые математические треугольники, так сказать, отделенные от ограничиваемых ими тел или вовсе никаких тел не ограничивающие, а замыкающие пустое пространство. Это тем менее вероятно (обстоятельство незамеченное Целлером), что Платон уже придерживался мнения—впоследствии даже значительно тормозившего развитие физики—по которому природа не терпит пустоты; сомнительно поэтому, чтобы пустота явилась, с его точки зрения, началом, из которого, путем ограничения математическими поверхностями, можно было бы построить всю телесную природу.
В тесной связи с космологией Платона, с его учением о мировой душе, о материи и об элементах, находится также и его психологическая теория; но рассмотрение этого учения отклонило бы меня далеко в сторону. Один пункт психологической теории Платона должен быть, однако, упомянут, по его отношению к вопросу о космической и человеческой эволюции: я говорю о знаменитой теории воспоминания и о прежнем существовании души. Учение это настолько тесно связано со всей философией Платона, что следует считать величайшей ошибкой мнение тех историков философии, которые, подобно Гегелю и Тейхмюллеру, относят и эти взгляды Платона к мифологическим иллюстрациям; Целлер, несмотря на свое стремление уделить как можно более места в философии Платона поэтическому элементу, отстаивает чисто философский характер теории воспоминания.
Платону, вообще, совершенно чужда идея прогрессивной эволюции. И в космических процессах, и в человеческой жизни, он видит или движение назад, или в лучшем случае круговорота. Такому циклу подлежит, по его мнению, и душевная природа человека, временно сливающаяся с телом, затем покидающая его, с тем, чтобы впоследствии вновь поселиться в другом теле. Бессмертие, переселение душ и воспоминание о прошлой жизни—все это до такой степени переплетается у Платона, что упразднить одно из этих понятий, значить разрушить всю систему. В частности, теория воспоминания служит для Платона существенною опорою всей его полемики против софистов, так как самое познание истины является возможным, по Платону, лишь в силу того, что душа снабжена зачатками истины, которые постепенно развиваются; учение это во многом сходно с теорией так наз. врожденных идей, возродившейся в новейших нативистических теориях.
Физиология Платона является лишь придатком к его психологии. Нигде недостатки диалектического метода Платона не обнаруживаются с такой ясностью, как именно в этой области; да и неудивительно, так как в области физиологии, у Платона порою не хватало даже таких фактов, которые, с современной точки зрения, кажутся элементарными: так напр., он ничего не знал об участии кишечного канала в процессе пищеварения и признавал все вообще кишки исключительно органами выделения излишних для организма количеств пищи. Еще в области физики и астрономии можно было порою строить остроумные догадки, несмотря на явное пренебрежете к опыту; но для подобных же догадок в области биологических наук необходимы были такие анатомические и физиологические сведения, которыми не располагал Платон, хотя в его эпоху греческая медицина уже достигла довольно высокого уровня развития.
Всю организацию человека Платон старается приурочить к различными видам и подразделениям души и объяснить испытываемыми этою душою потребностями.
Душа, по Платону, представляет нечто среднее между идеей и телесным предметом. Мы уже видели, что таким же промежуточным звеном является у Платона и материя, „кормилица всего рождаемого". Но от материи душа отличается существенным образом. Высшую форму души составляет известная уже нам мировая душа; но и у каждого отдельного человека Платон признает высший род души—бессмертное начало, наиболее близкое к идее и независимое от телесной оболочки; наряду с ними, однако, есть еще два рода смертной души, тесно связанной с телом. Каждый из трех родов души не только обладает различными отправлениями, но и вполне определенным местопребыванием в организме. Наши физиологические знания еще не позволяют нам смотреть свысока на эту грубую локализацию душевных отправлений; самая мысль о соответствии, тех или иных психических функций с теми или иными, частями организации вовсе не была нелепа, хотя она и не основывалась на достаточных фактических данных. Бессмертную часть души, и вместе с нею разум, способный постигать „идеи," Платон уже помещал в головном мозгу или, по крайней мере, в голове; в грудной клетке помещается, по его мнению, мужество, составляющее мужскую половину смертной части души; в брюшной полости находится похотливая, низшая часть души, которой приписывается женский характер; классификация тем более странная, что Платон, как видно из его „Республики" и даже из начальных страниц „Тимея", признает совершенное равенство обоих полов, как в политическом, так и в умственном отношении. О рассуждениях Платона по анатомическим и физиологическим вопросам можно судить хотя бы потому, что грудобрюшную преграду (диафрагму) он считает созданною собственно с целью разграничить мужскую—высшую и женскую—низшую часть души. Сердце Платон рассматривает, как „узел всех жил" и источник быстро льющейся по всем членам крови; из этих слов Платона, однако, не видно, чтобы он, хотя самым смутным образом, догадывался об истинном процессе кровообращения; да и роль сосудов понималась им ложно: он напр. считал их проводниками чувственных впечатлений, а о функциях и строении нервной системы, исключая головного мозга, не знал ровно ничего. Замечательно, что Платон как раз в своих физиологических заключениях несколько раз подчеркиваете их правдоподобие, а не достоверность. Подобно многим древним философам, Платон приписывает значительную роль печени. Для устрашения нижней части смертной души, печень, по Платону, обладает сладостью и горечью. Можно только вкратце упомянуть о том, что Платон, хотя не вполне ясно, приписывает печени способность к прорицанию. Он говорит, впрочем, что лишенная жизни печень темнеет и становится тогда неспособной прорицать что-либо дельное. Мне кажется, что это место Тимея просто направлено Платоном против кровавых жертвоприношений; оно указывает на бесполезность прорицаний по вынутым внутренностям. Оригинальная роль приписывается селезенке: она, по мнению Платона, поддерживает печень в чистоте, обмывая ее, как будто губка. На пищеварительную систему Платон смотрит, как на пассивную полость; пища вообще переваривается, по его мнению, от действия жизненной теплоты, а внутренности служат или простыми приёмниками, или органами, исключительно удаляющими нечистоты, накопившиеся от несоответствия между потреблением и тратой или, выражаясь грубо, от обжорства. В обсуждении строения головы и туловища, Платон стоит на половину на почве наблюдения. Он полагает напр., что степень развития мышц, сосудов н т. п., у разных особей определяется присутствием тех или иных элементарных треугольников; но в то же время делает и замечания, далеко менее априорного характера и очевидно выведенные из наблюдения. Сюда относится напр. его утверждение, что степень развития мышечной системы какого-либо органа обратно пропорциональна степени душевного развития этого органа. Так Платон сопоставляет череп, почти лишенный сколько-нибудь крупных мышц, с конечностями.
Как ни ошибочны почти все частности в физиологическом учении Платона, некоторые его основные мысли остались не вполне бесплодными: в особенности была свойственна Платону мысль о гармоничном устройстве, о соотношении и соответствии между всеми частями организма. Рассуждая напр. о четвероногих и их отличии от человека, Платон находит, что продолговатая и сплюснутая форма черепа четвероногих более гармонирует с их способом хождения, нежели шаровидная человеческая форма головы.
Допуская пространственное распределение души в различных частях тела и при том такое, что тем или иным полостям тела соответствуют различные психические отправления, Платон этим самым был приведен к допущению некоторой зависимости между душевною и телесною природою человека; в особенности же он был вынужден допустить такую связь для „смертной части души"; однако и „бессмертная часть души", по её связи с смертною частью, тем самым оказывалась в некоторой зависимости от тела. Насколько Платон признавал влияние тела на душу, видно из его замечаний относительно помрачающих ум болезней и из его гигиенических советов: правильную жизнь он считал не только более важным средством для сохранения здоровья, нежели лекарства, но и необходимым условием для поддержания умственной бодрости. Замечательно, что наряду с чисто метафизическим и недоступным научной проверке учением о „воспоминании" прежних состояний души и с полу мифологическим учением о переселении душ, сближающим Платона с орфическими певцами и с Востоком, мы находим у него и вполне рациональные попытки связать врожденность идей с теорией физиологической наследственности. Он решительно подчеркивает существование зачатков, передаваемых от родителей к детям, и прямо указывает на физиологическую основу наследственности, распространяя ее и на душевные свойства. Он утверждает, что от пылких натур рождаются пылкие, от спокойных—спокойные, и замечает, что если оба родителя обладают одинаковой природой, то у потомства свойства родителей могут развиться до вредной односторонности. Платон признает также различие душевных свойств разных племени и рас, утверждая напр., что у греков наиболее развита разумная часть души, у северных варваров—отвага, а у египтян и финикиян—корыстолюбие. Подобно некоторым из своих предшественников, Платон признает одними из главных условий развития—правильное оплодотворение, замечая, что и телесное, и душевное состояние родителей во время этого акта оказывает существенное влияние на потомство.
В своей „Республике" Платон предписал даже правителям и правительницам устраивать нечто вроде искусственного подбора, посредством правильного руководства половыми связями в идеальной коммунистической общине; впрочем, он признает всю трудность и сложность этой задачи.
Было уже подчеркнуто, что учение Платона менее всего может считаться эволюционным, в особенности если с эволюцией связывать понятие прогресса. Скорее свойственна Платону идея некоторых циклов, возвращающих к прежнему состоянию, а также идея регресса, превращения высших существ в низшие. Однако, во всем, что говорит Платон по этому поводу, черты мифологического характера настолько преобладают над философскими размышлением, что здесь, действительно, трудно указать границу между мифом и философией; местами, уже иронический шутливый тон философа ясно показывает, что речь идет о поэтическом пояснении или о намеке на философскую теорию, но не о каких-либо догматически утверждаемых положениях.
Так, в конце „Тимея" идет речь о происхождении животных; но здесь совершенно ясно, что для Платона вопрос об эволюции органического мира вовсе не представлялся чем-либо существенными и стоящим философской разработки. В его телеологической и антропоцентрической системе, растения и животные играли роль лишь как условия человеческой жизни; растения созданы для пищи человека, животные для того, чтобы служить вместилищем порочных человеческих душ. Самая мысль о переселении человеческой души в то или иное животное выставлялась Платоном, как нечто серьезное, но едва ли следует считать серьезным, с его точки зрения, вытекающее отсюда объяснение происхождения различных групп животного мира. Души малодушных мужчин, по словам Платона, при втором рождении перерождаются прежде всего в женщин. Отделение от прежнего местопребывания и порождает страсть совокупления, которая представляет нечто вроде одушевления животного, сидящие как в мужчинах, так и в женщинах. Еще ниже павшие души поселяются в четвероногих. Что касается птиц, это племя происходить „из мужчин, правда не дурных, но легкомысленных, которые хотя и занимаются небесными явлениями, но по простодушию считают свидетельства чувств вполне надёжными". Конечно, каждый поймет, что Платон имел здесь в виду выставить превосходство умозрения над чувственным опытом, а никак не выяснить происхождение птиц. То же следует сказать и об его утверждении, что в четвероногих превращаются люди, пренебрегающие философией.
Если мы вспомним, что для Платона настоящим знанием было лишь познание идей, т. е. бесцветных, беспредметных, нематериальных сущностей, то поймем, почему его так мало интересовали вопросы генезиса и эволюции; поймем и то обстоятельство, почему его диалектический метод лишь в немногих случаях позволил ему предугадывать истины будущего естествознания. Эти проблески гения мы видим в его учении от элементарных геометрически правильных частицах, в его мировой душе, насколько она является предвестницею математической формулировки законов природы, и в некоторых мыслях о локализации душевных функций, об их зависимости от телесных отправлений и обратном воздействии на эти отправления. Но взятая как целое, его система была в высшей степени неудачна. Прежде всего поражает необычайная сложность этого миросозерцания. Не довольствуясь бестелесными идеями и чувственно воспринимаемыми телами, он вставляет целый ряд промежуточных звеньев: мировую душу, материю, наконец индивидуальную душу, в свою очередь подразделяющуюся на бессмертную и смертную часть. Другого исхода, впрочем, и не было для Платона, раз он был вынужден так или иначе связать свое учение об идеях с противоречащими этим идеям показаниями чувственного опыта. Он мог, сколько угодно, смотреть на этот опыт свысока, но он не дошел еще до того идеализма, который признаете возможным совсем обойтись без опыта; пусть показания опыта— сущий призрак, видимость, даже нечто не существующее, однако и эта видимость должна иметь какое-либо объяснение.
Резко восставая против эмпиризма Протагора, отказываясь признать чувственную природу отдельного человека или хотя бы общечеловеческую „низшую" природу мерилом истины, Платон тем самым обязался дать другое, высшее мерило, которое и пытался найти в законах разума, данных извне, путем познания вечных, неизменных идей. Попытка оказалась неудачною, потому что идеи, скрывающиеся где-то, в сверхчувственной области, в конце концов оказались абстракциями, извлеченными из того же опыта. Здесь не место для подробной критики учения об идеях; не мешает, однако, привести следующие слова Канта, находящиеся в его „Критике чистого разума": „Легкий, голубь рассекающий в свободном полете воздух и чувствующий сопротивление, мог бы вообразить, что ему еще лучше удастся полететь в безвоздушном пространстве. Точно также Платон оставил этот чувственный мир, потому что мир ставит слишком узкие границы для рассудка, и отважился, на крыльях идей, по ту сторону, в пустое пространство чистого рассудка. Он не заметил, что всеми своими усилиями не выигрывает ни одной пяди, потому что не приобрел никакой точки опоры, к которой мог бы применить свои силы чтобы сдвинуть рассудок хоть на шаг с данного места".
Диалектический метод и идеализм—вот слова, имеющие целую историю, много раз менявшие значение и подававшие повод к крайним злоупотреблениям.
Но Платон был идеалистом и диалектиком в настоящем смысле слова. Диалектика представляла, с его точки зрения, не пустое искусство расчленять понятия: это был метод, посредством которого он стремился очистить идеи от всяких чувственных примесей. Идеям этим приписывалось внемировое, независимое, объективное существование; это были не простые, а стоящие выше всякого опыта реальности; удивительно ли, что опытному знанию было придано лишь служебное, второстепенное значение?
„Я считаю, говорил Платон, истинных астрономов мудрецами, но не тех, которые, следуя, Гезиоду и всем подобным звездочетам, считают себя астрономами, потому что наблюдают восход и заход созвездий; я же подразумеваю тех, которые исследуют восемь небесных сфер и великую гармонию вселенной, что одно прилично и достойно ума человека, просвещенного богами".
В этом идеализме была доля истины. Одно накопление опытного знания еще не есть наука; наблюдения составляют лишь первый её шаг; да и для всякого научного наблюдения и опыта необходимы руководящие принципы, нужен рациональный метод, уменье ставить разумные вопросы. Опытное основание науки может быть совершенно скрытым. Леверрье открыл планету Нептун—ни разу не взглянув в трубу, одним вычислением; он мог бы оставаться тем же славным астрономом, даже если бы был слеп от рождения. Несомненно, что у Платона первой, хотя далеко не единственной, основой его учения об идеях была математика, обещающая такую обильную жатву, по-видимому, без содействия опытного знания: но только—по-видимому; математические умозрения, оторванные от действительности, слишком легко превращаются в пустую и бесполезную игру: и во многих случаях это мы на самом деле видим у Платона.
Космологические теории Платова всего подробнее разобраны Мартеном. (), но этот труд несколько устарел. Целлер посвятил Платону (помимо обширного отдела в своей истории философии) еще ряд этюдов. Вторая часть новейшего труда Гомперца еще не появилась, а первая не доведена до Платона. Труд Грота о Платоне находится в тесной связи с его воззрениями на софистов. Огромной литературы о Платоне я, конечно, цитировать не стану и отсылаю к библиографическим указаниям Ибервега (), Виндельбанда и проч. В России учением Платона занимались по преимуществу филологи, юристы и философы разных идеалистических толков, рассматривавшие его полемику против софистов (так напр. есть книга Смирнова о Феэтете) или его политические утопии. В реалистическом духе написаны очерки И. И. Иванова (Философия без фактов, Русская Мысль, 1893 г., кн. 2 и 3); но и здесь речь идет, главным образом, о политическом учении Платона. Статья эта стоит прочтения, хотя автору совершенно чуждо понимание исторического значения Платона.
Я так высоко ценю авторитет Целлера, что лишь после долгого обсуждения вопроса решаюсь признать ошибочными некоторые его взгляды на Платона. Мне кажется, Целлер чаще всего ошибается именно в тех случаях, когда причисляет те или иные воззрения Платона к поэтическим или мифологическим элементам, намеренно введенным Платоном ради эстетических целей. Так напр. Целлер утверждает, что все вообще, содержащееся в Тимее относительно происхождения мира и его образования из первичной материи, имеет характер пояснительного мифа. Я согласен лишь с тем, что вопросы генезиса и развития, вообще, представляют для Платона мало интереса — его занимает гармония существующего уже космоса; но из этого не следует, чтобы Платон считал мир по существу вечным и вовсе не задавался вопросом о его начале во времени. Соглашаясь с тем, что у Аристотеля можно найти многочисленные доказательства иного понимания Платона, Целлер находит, однако, одно место, как будто подтверждающее, что вопрос о начале мира был совсем устранен Платоном. В сочинении Аристотеля () сказано о том, что Платон не выразил ясно, может ли материя существовать иначе, как только в виде четырех стихий. „Очевидно, говорит Целлер, что если на этот вопрос дать отрицательный ответ, то придется отрицать и начало мира." Но, по-моему, очевидно, что ответ должен быть утвердительным, в том смысле, что если даже признать вечность материи (кормилицы всего рождаемого, стало быть не рожденной), то все-таки четыре стихии, а вместе с ними и все предметы телесного мира, окажутся возникшими во времени. Нигде не видно, чтобы Платон признавал также стихии не рожденными, бестелесными элементами, не подлежащими чувственному восприятию: напротив того, он прямо признает их телами. В Тимее, конечно идет речь не об огне и др. стихиях, но об идее огня и проч. Здесь. утверждается просто, что идея огня, как и вообще всякая идея (хотя бы идея стола или кровати—Платон, как известно, допускал и такие идеи) недоступна чувствам и не имеет ни начала, ни конца, ни рождения, ни гибели.
Аристотель объясняет происхождение платоновского учения об идеях таким образом: в юности Платон находился под влиянием Кратила, одного из немногих учеников Гераклита; Кратил довел учение Гераклита о „течении" всех вещей до крайностей, которые не могли не поразить Платона. Усвоив учение Сократа, Платон не мог уже остановиться на точке зрения Гераклита, а сношение с пифагорейцами и изучение математики привело к его теории, которую Аристотель считает лишь видоизменением пифагорейского учения о числах: пифагорейцы признавали числа—реальностями, стоящими выше вещей, а Платон сделал еще шаг вперед по пути абстракции и заменил числа идеями. Этот взгляд Аристотеля страдает некоторой односторонностью. Мысль о том, что числа управляют миром, обща Платону с пифагорейцами, но у этих последних математический элемент является почти исключительным, тогда как у Платона в основе учения об идеях стоит на первом плане не математическая, а онтологическая точка зрения, в значительной степени напоминающая элейцев. В строгом смысле, идеи должны были бы радикально отличаться от чисел, потому, что идея есть нечто нераздельное и единое, тогда как число обозначает совокупность единиц, стало быть множественность. Конечно, Платон не везде одинаково выдерживает свою точку зрения на идеи, и Аристотель часто ссылается на „неписанные учения", т. е. на устные беседы Платона, в которых, по-видимому, было проведено более тесное сближение между учением об идеях и пифагорейскою игрою в числа.