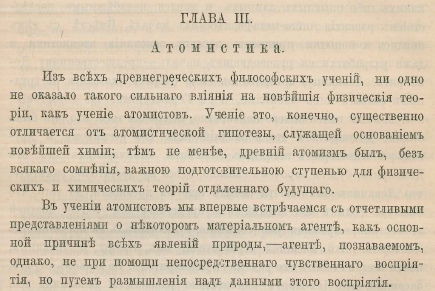
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА III.
Атомистика.
Из всех древнегреческих философских учений, ни одно не оказало такого сильного влияния на новейшие физические теории, как учение атомистов. Учение это, конечно, существенно отличается от атомистической гипотезы, служащей основанием новейшей химии; тем не менее, древний атомизм был, без всякого сомнения, важною подготовительною ступенью для физических н химических теорий отдаленного будущего.
В учении атомистов мы впервые встречаемся с отчетливыми представлениями о некотором материальном агенте, как основной причине всех явлений природы,—агенте, познаваемом, однако, не при помощи непосредственного чувственного восприятия, но путем размышления над данными этого восприятия.
Связь греческой атомистики с новейшими физическими, а вследствие этого и философскими учениями, была одною из причин крайне разноречивой оценки этого философского направления, причём спорили и о происхождении, об историческом значении атомистики. Поклонники Платона, как например Шлейермахер и Риттер, нередко относились к главе атомистического учения— Демокриту настолько пристрастно и враждебно, как будто речь шла о современном им философском противнике. Атомистов поместили, прежде всего, в разряд софистов, которых осуждали без всякого разбора; затем, специально по адресу атомистов, и еще специальнее—против Демокрита, выставлялся ряд обвинений, нередко в высшей степени курьезного характера. Демокриту ставилось например в вину даже его замечание, что он моложе Анаксагора. В этом Риттер увидел доказательство крайнего тщеславия Демокрита.
В новейшее время, более объективное отношение к Демокриту может быть найдено даже у писателей явно идеалистического направления, как например у Виндельбанда. Замечательно, однако, что при этом проявляется своеобразное стремление—доказать, что атомизм был в начале совершенно независим от каких-либо опытных данных и явился неизбежным последствием развития чисто метафизических начал. Вместе с тем явились и попытки приписать заслугу основания атомистики и даже разработки её руководящих начал—предшественнику Демокрита, Левкиппу, которого в свою очередь оказалось не трудным связать и с элейцами, и с Гераклитом. К сожалению, о Левкиппе почти ничего неизвестно, исключая того, что он был старше Демокрита и что последний был его учеником и другом. О некоторых взглядах Левкиппа, отличающих его от Демократа, будет, впрочем, сказано; здесь же достаточно заметить, что Левкипп был почти забыт еще в древности, до того, что Эпикур—один из виднейших представителей более поздней атомистики, выражал уже сомнение, существовал ли когда-нибудь Левкипп. Что касается Аристотеля, он, говоря о Левкиппе, почти всегда ставит его рядом с Демокритом. Во всяком случае, очевидно, что Демокрит значительно развил и дополнил все, заимствованное им у своего учителя и друга.
Личный вопрос, впрочем, не так еще важен, как исследование зависимости атомистики от предшествующих учений и указание её метафизических и опытных основ. Мне кажется, те авторы, которые, подобно Виндельбанду, подчеркивают метафизическое основание атомистики, придают слишком малое значение историческому свидетельству Аристотеля.
Этот философ прямо противопоставляет Демокрита своему учителю Платону и, пользуясь случаем, разъясняет различие между физическими исследованием в противоположность логическому, причем представителем последнего оказывается Платон, тогда как учению Демокрита приписан характер физической теории. Источником атомистики было, по мнению Аристотеля, главным образом, размышление над теми фактами, которые доставляет опыт относительно делимости тех или иных тел—стало быть явление чисто физического, а не метафизического порядка. Да и попытка атомистов объяснить все разнообразие явлений природы посредством различных сочетаний, скоплений и движения атомов, существенно отличается от метафизических соображений о „едином" и „многом"— отличается тем, что имеет, прежде всего, в виду не упразднение, а объяснение чувственного мира; но этот мир не возводится и на степень абсолютной реальности: наоборот, учение Демокрита проводит строгое различие между тем, что доступно чувствам, и вещами, познаваемыми лишь умом— и только этим последним приписывается реальность, абсолютная в смысле независимости от наших чувственных восприятий.
Само собою разумеется, что такое учение не могло возникнуть внезапно, и что оно стоит в связи с предыдущими системами: но характер этой связи понимается разными историками чрезвычайно различно.
Вполне возможно, даже вероятно, что первый основатель атомистики, Левкипп, был в гораздо большей мере метафизиком, чем физиком; но не менее правдоподобно н то, что его метафизика имела, по преимуществу, отрицательный характер и что она была позднее дополнена вполне положительным физическим учением. Заслуга развития этого последнего принадлежит Демокриту, который далеко превосходил Левкиппа естественнонаучной подготовкой, а по-видимому также и литературными талантом. Выделить из учения Демокрита то, что принадлежит, собственно, Левкиппу—задача едва ли исполнимая. Следует, однако допустить, что основные положения об атомах, о пустоте, об атомных вихрях, принадлежать уже Левкиппу; Демокрит же обставили эти положения всеми данными естествознания, какими располагала тогдашняя наука. Учение о субъективности ощущений было разработано им, по-видимому, совершенно самостоятельно, а без этого учения атомистика легко могла бы превратиться в такую же бесплодную, с физической точки зрения, онтологию, какою было учение элейцев. Те историки, для которых вопрос о первенстве играет более важную роль, нежели вопрос о рациональном обоснованы и фактическом, доказательстве теории, могут, конечно, приписывать главную сущность атомистическая учения—Левкиппу; но только Демокрит придали этой гипотезе такой характер, что она могла бы послужить одним из могущественнейших рычагов для естествознания — если бы не оказалась чересчур преждевременной. Эта преждевременность не позволила атомистике пустить глубоких корней в античном мире; и со времени Эпикура и Лукреция почти до Франциска Бэкона и Гассенди трудно указать мыслителя, на которого учение Демокрита оказало бы влияние, хотя сколько-нибудь сравнимое с влиянием Платона или Аристотеля.—Определить историческое значение атомистики оказывается, поэтому, далеко не легкими делом, тем более, что картина значительно изменяется, смотря по тому, признаем ли мы главную заслугу основания этого учения за Левкиппом или же за Демокритом, или, что всего правдоподобнее, признаем за каждыми из обоих этих философов особую, одинаково важную роль. Левкипп, без сомнения, находился в тесной связи с прежними метафизиками, по нему явился не продолжателем элейцев, как иногда принято думать, а их противником, побивавшими их, правда, их же собственными оружием. Без сомнения, Левкипп установили, по-видимому путем чисто логического анализа, и первый положительные начала атомистики; однако, сомнительно, чтобы эти начала могли сколько-нибудь повлиять на дальнейшие успехи научного знания, если бы разработкой атомистики не занялся Демокрит, величайший, до Аристотеля, естествоиспытатель древности.
Было бы в высшей степени любопытно выделить именно то, что принадлежит в атомистике еще Левкиппу. К сожалению, этому препятствует крайняя скудость сведений; то немногое, что мы находим специально о Левкиппе, например у Диогена Лаэртского, позволяет лишь заключить с уверенностью, что основное понятие об атомах было им уже выработано. По всей вероятности, это учение явилось первоначально, как реакция против элейского учения о едином, сливающем все в одну неразличимую, неподвижную массу и вместе с тем уничтожающем всякое естествознание. Трудно, поэтому, согласиться с мнением Виндельбанда и многих других писателей, будто атомизм представляет, так сказать, лишь продукт дробления элейского „единого". Конечно, не трудно придумать чисто схематическое построение истории философии, при котором любое философское учение окажется продуктом развития, взятого на удачу предшествующая учения. Для доказательства связи между Левкиппом и Парменидом приходится прибегнуть к следующей схеме: надо раздробить элейское „единое" на бесконечное множество мельчайших атомов и в тоже время допустить, что атомы отделены между собою пустым пространством. При этом получится, однако, ряд несообразностей, так как однородная, лишённая всяких качеств и неподвижная субстанция Парменида, при каком угодно дроблении, не может допустить ни пустых промежутков, ни различия между мысленно разделенными частями— не говоря уже о том, что чисто умственное деление единого на части существенно отличается от физической делимости. Хотя мы очень мало знаем о гипотезе Левкиппа в её первоначальном виде, однако, трудно допустить, чтобы её отправным пунктом могла быть такая несообразность, как раздробление неподвижного единого элейцев. Гораздо проще и правдоподобнее допустить, что он выступил против этого единого полемически; что же касается утверждения Виндельбанда, будто Левкипп „продолжал придерживаться не только признака неизменяемости (как то: невозникаемости и неуничтожаемости), но также и признака сплошной качественной однородности существующего" — то в этом утверждены верно лишь то, что Левкиппу было чуждо учение его современника Эмпедокла о четырех элементах, и что качественный различия вещей были им сведены на различия в сочетаниях между атомами; из этого еще не следует, чтобы атомы признавались однородными между собою, как бы ни был однороден и неизменяем, каждый взятый в отдельности атом. Согласиться можно, поэтому, лишь с тем, что для Левкиппа отдельно взятый атом представлялся чем-то вроде неизменяемого единого элейцев; однако и здесь есть огромное различие, так как элейское единое неподвижно и исключает понятие о пустоте, тогда как атом постоянно движется и для своего перемещения требует пустоты. Вполне вероятно, что догматические положения Парменида и диалектические соображения Зенона о невозможности движения не мало содействовали установлению атомистического учения: но важно помнить, что речь идет не о развитии элейской системы—эта система уничтожила сама себя еще в зеноновской диалектике — а об установлении совершенно новых начал. Впрочем, еще в древности это было понято такими выдающимися умам, каковы Аристотель и талантливейший из учеников Аристотеля—Феофраст. Аристотель очень редко сопоставляет атомистов с элейцами, и даже когда это делает, то большею частью лишь затем, чтобы указать на различие между философами, признающими единое, начало, и теми, которые допускают многие или даже бесконечно многочисленные начала; при этом Аристотель обыкновенно причисляет к одной категории Эмпедокла, Анаксагора п Левкиппа с Демокритом, а к противоположной—элейцев. Еще определеннее высказывается Феофраст. По его словам, „Левкипп, родом из Элен или же из Милета (слова, доказывающие, как и многие другие выражения древних писателей, что о Левкиппе, вообще, сохранились крайне скудные данные), был знакомь с учением Парменида, но он избрал не тот путь, как этот последний и как Ксенофан, а, кажется, противоположный. Действительно, в то время, как они признавали все единым, неподвижным, непроисшедшим и ограниченным и насмехались над самым вопросом о несуществующем (т. е. о пустоте), Левкипп допустил бесконечное число вечно подвижных первичных тел или атомов".
Учение настолько новое, каким была атомистика, разумеется, не может возникнуть совершенно внезапно, и некоторые его основания могут быть найдены в самых различных предшествующих системах. Так у элейцев мы видим, действительно понятие о неизменности, примененное Левкиппом, вместо вселенной, к атомам; с другой стороны, как замечает тот же Феофраст, Левкипп вполне признавал непрерывное возникновение вещей и их непрерывное изменение и в этом отношении приближался к Гераклиту, хотя было бы крайней несообразностью считать его последователем этого философа, от которого его отделяют многие в высшей степени существенный черты учения. Если Левкипп учил, что „несуществующее", т. е. пустое пространство, не менее реально, чем „существующее", т. е. атомы то конечно это учение радикально отличается от Гераклитовского тожества противоположностей, так как у Левкиппа речь идет не о превращении атомов в пустоту или пустоты в атомы, но о существовании атомов наряду с пустым пространством или точнее, о движении атомов в пустоте, под которой и подразумевалась среда, допускающая перемещение в ней атомов. Кое какие данные, близкие к атомистике, можно найти, конечно, и в учениях Эмпедокла и особенно Анаксагора, и даже в учениях древнейших ионийцев, где мы уже видим, особенно у Анаксимандра, попытку указать некоторое качественное единство материи: такое единство допускалось и Левкиппом, так как с его точки зрения, все различие между атомами обусловливается признаками, доступными количественному определению (величина, геометрическая форма, взаимное положение, движение); а в этом следует видеть значительный шаг вперед, так как этим подготовлялся путь к измерению и вычислению.
Таким образом, элейцы могут считаться предшественниками атомизма лишь с несколько большим правом, нежели ионийцы; этого и следовало ожидать, уже по чисто хронологическим причинам и большей выработанности их учения. Сверх того, элейская школа была важна собственно для Левкиппа еще потому, что приучила его к тонкому диалектическому анализу и дала возможность бороться против метафизики её же средствами. Сохранились только отрывочные сведения об этой борьбе. Учение элейцев об отсутствии пустого пространства Левкипп опровергали тем, что „полное не может ничего принять в себя", а если допустить обратное, то, по Левкиппу, придем к утверждению, что два тела могут занять место одного, и стало быть и три тела, и сто тел, и бесконечное число тел, причем окажется, что „наименьшее может принять в себя наибольшее". Если освободить эти доводы от их диалектической формы и перевести на физические понятия, то выйдет, что Левкипп доказывал существование пустоты, исходя из понятий непроницаемости и ограниченной сжимаемости. Он утверждал, хотя и в неясной форме, что в конечном пространстве нельзя поместить какого угодно количества вещества, и в этом видел доказательство своего учения о составе вещества из атомов, т. е. из мельчайших, но не допускающих дальнейшего деления частиц. Более отчетливое выяснение этих показаний было трудно для Левкиппа уже по той причине, что в его время понятие о без конечного числа постоянно смешивалось с понятием об очень больших числах. По-видимому, он признавал во вселенной бесконечное число атомов; его же рассуждения должны были привести к утверждению, что в данном ограниченном объёме помещается хотя и весьма большое, но конечное число атомов; в противном случае весь довод лишается силы. Но высказать это положение в более определённой форме помешало Левкиппу то обстоятельство, что для него казалось достаточным и чисто формальное опровержение элейского учения. Более положительные доказательства существования атомов и пустоты мы находим у Демокрита, который пытался обосновать это учение чисто опытным путем: он наполнял сосуд пеплом и сравнивал количество воды, помещающееся в таком сосуде, с тем, какое можно влить в сосуд без пепла; найдя почти равные количества, Демокрит и пришел к выводу, что объяснить это можно лишь содержанием в пепле очень значительной „пустоты". Как ни груб этот опыт, не принимавший во внимание содержания воздуха в пористых телах, но основная мысль его верна, и для своего времени этот опыт замечателен: здесь мы видим уже прямую попытку заменить диалектику—экспериментами и противопоставить физику—метафизике, о чем предшественники Демокрита, Левкипп, по-видимому, еще мало заботился.
В дальнейшем изложении атомистического учения мы не будем проводить различия между Левкиппом и Демокритом, так как сказанного достаточно, чтобы определить, по крайней мере в основных чертах, долю участия каждого из них в этом учении. Сверх того, и о самом Демокрите имеются лишь крайне отрывочные сведения: из его многочисленных сочинений ни одно не дошло до нашего времени. Мнение, по которому Аристотель чуть ли не переписывал некоторые произведения Демокрита, конечно, крайность; но без сомнения, он ими часто пользовался; как высоко он ставил знания и широкую точку зрения Демокрита, об этом говорит он сам, замечая, что, кажется, нет предмета, о котором бы не размышляли Демокрит; и действительно, стоит просмотреть хотя бы список сочинений Демокрита, составленный Диогеном Лаэртским, чтобы увидеть, что, по энциклопедичности знаний и разнообразию обсужденных им вопросов, Демокрит почти не уступал самому Аристотелю. Если даже допустить, что половина из перечисленных Диогеном трактатов подложны, то и остальных достаточно для того, чтобы обнять всю область тогдашнего знания, от математики и астрономии до этики и политики (Странно, почему Ланге, совершенно основательно указав на заслуги атомистов в деле установления понятия о материальном мире, в тоже время начинаете свою книгу словами: „Материализм так же стар, как философия, но не старее". В ответ на замечания критиков, Ланге объясняет только, что эта фраза понадобилась ему как оружие, во-первых, против некоторых порицателей материализма, во-вторых, против самого материализма, в свою очередь презирающего философию и воображающего, что он независим от философских умозрений, но является лишь плодом здравого смысла и науки. Объяснение это, однако, не показываете, следует ли считать философией например учения Парменида, Гераклита и Анаксагора. Утверждение Ланге, что гиюзоизм Фалеса существенно отличается от „материализма" атомистов, вполне основательно, но оно и показывает, что философия старше материализма и только поэтому материализм не старее философии.).
В древности имена Левкиппа и Демокрита связывались то с элейцами, то с учениями Эмпедокла и Анаксагора. Позднейшие историки много спорили о том, куда поместить атомистов. Брандис, Марбах, а в новейшее время Фулье и Гомперц признают атомизм развитием учения ионийской школы. Гегель считает учение Демокрита стадией развития, следующей за Гераклитом; по Швеглеру, атомизм частью соединяет в себе начала Гераклита и элейцев, частью имеет характер реакции против анаксагоровского учения об уме. По мнению Риттера, Демокрит представляет типичного „софиста",—впрочем, не действительного, а чисто теоретического, созданного, по преимуществу, прежними немецкими историками философии. На этом основании не только учение Демокрита, но и каждое его слово подвергается со стороны Риттера самой суровой критике. Даже чисто хронологическое показание Демокрита о том, что он моложе Анаксагора, признается за доказательство „тщеславия"; как будто в древности старость признавалась чем то унижающим человека и особенно философа. После этого не удивительно, что Риттер находит у Демокрита исключительно „грубый эмпиризм", „многознайство", отсутствие объединяющих начал, господство слепой случайности в природе и, разумеется, безбожие, эгоизм и безнравственность. Демокрит учил, что вселенная состоит из бесчисленных атомов—этот факт, по Риттеру, служить красноречивейшим доказательством того, что в атомизме нет никакого единого начала. В таком же роде и все прочие доказательства или, точнее, обвинительные пункты. Этим „идеалистическим" выходкам не мешает противопоставить вполне объективное изложение Целлера и Виндельбанда,—писателей, которых, конечно, никто не решится заподозрить в материалистических симпатиях. Виндельбанд ни на минуту не колеблется даже поставить имя Демокрита рядом с именами Платона и Аристотеля. Взгляды Виндельбанда, на атомизм вообще и на Демокрита в частности, настолько любопытны, что им не мешает уделить несколько строк.
В то время, как большая часть историков рассматривают Левкиппа заодно с Демокритом, Виндельбанд считает возможным исследовать порознь две стадии развития атомизма. В первой из них, представленной Левкиппом, автор видит очевидную зависимость от элейцев; во второй, т. е. в системе Демокрита, он усматривает явное влияние учения Протагора, хотя далеко не сходится с Риттером по вопросу относительно причисления Демокрита к софистам. Субъективизм Протагора, по мнению Виндельбанда, помог Демокриту переработать учение Левкиппа, в котором был основной пробел, состоящий в невозможности объяснить превращения и изменения чувственно воспринимаемых вещей.
Видя в атомах нечто вроде абсолютной реальности, Демокрит имел возможность объяснить явления окружающего мира тем, что они отличаются от этой реальности, служа лишь несовершенным её изображением.
Впрочем, и Виндельбанд вынужден признать, что одною из главных заслуг Демокрита является установка атомистики на началах естествознания, чем его система существенно отличается от учения Левкиппа. Так смотрит на дело А. Ланге в своей истории материализма, и эта точка зрения нам кажется единственно правильною, тогда как влияние Протагора на Демокрита едва ли могло быть особенно значительными. Только со времени Демокрита может идти речь об установлены научного понятия о материальном мире, хотя у Демокрита и нет указаний на какое либо единое начало, заслуживающее названия первичной материи. Объединяющим началом у Демокрита является скорее учение о единообразии законов природы, о необходимости, которую некоторые порицатели Демокрита совершенно напрасно смешивали с случайностью. Величие Демокрита именно в том и состоит, что прежние полумифологические представления о необходимости он заменил стройной системой, в которой все явления материального мира объясняются действием законов, подлежащих изучению, причем вопрос о конечных причинах, так много занимавший и предыдущие и последующие поколения философов, для него отступил на второй план, по сравнению с вопросом о зависимости, связывающей между собою различные ряды наблюдаемых фактов. Предшествуя Аристотелю по времени и уже поэтому уступая ему знаниями, Демокрит, по духу учения и приемам исследования, был, насколько мы можем судить по сохранившимся отрывочными данными, ближе к современному естествознанию, нежели Аристотель.
Это бесспорное положение иногда, однако, утрируется. Несомненно, что Демокрит не был проникнуть принципом целесообразности, господствующими в мировоззрении Аристотеля; но до новейшего времени не замечали, что в известном отношении (а именно, в смысле постановки вопроса о развитии) телеологический принцип Аристотеля, в свою очередь, ближе подошел к современному естествознанию, нежели чисто механическое начало Демокрита. Никто иной, как сам Дарвин, указал на Аристотеля в числе своих предшественников; а недавно Осборн, в талантливом, хотя очень сжатом и порою несамостоятельном очерке истории эволюционного учения, подчеркнул то обстоятельство, что Аристотель вполне сознательно отверг принцип, очень близкий к учению о естественном подборе,—стало быть понимал этот принцип, хотя и считал его ниже своей телеологии. Но этот вопрос будет подробно рассмотрен при разборе учения Аристотеля, здесь же достаточно сказать, что относительно Демокрита мы не имеем никаких сведений, которые позволили бы думать, что он, со своей механикой атомов, подошел к такому объяснению органического развития, которое содержало бы хотя намек на теорию подбора, да и вообще на какую либо теорию постепенного развития. Демокрит, правда, восхищался целесообразным устройством человеческого тела и, вообще, органических форм; далекий от приписывания этой целесообразности действию какого-либо мирового ума, он, однако, не пытался найти для неё и какого-либо биологического объяснения, хотя бы в той первобытной, грубой форме, какую мы встречаем у Эмпедокла, указавшая на гибель уродливых, созданных его собственным воображением, форм. Демокрит, по видимому, был вовсе не склонен к генетическим исследованиям; подобно тому, как в физике он искал не столько отдаленных и первичных причин, сколько описания того, как происходят явления, так и в области биологии его интересовал не столько вопрос о происхождении жизни и органических форм, сколько ближайшее исследование условий и особенностей жизни. Его объяснения были, по всей вероятности, тесно связаны с основными началами атомистики: те или иные свойства организма объяснялись свойствами специальных атомов, составляющих этот организм или его отдельные органы. Намеки на такие объяснения действительно находятся в дошедших до нас отрывках и в сведениях, сообщаемых Аристотелем и позднейшими писателями.
Из весьма немногого, что уцелело от исследований Демокрита в области естествознания, достаточно отметить некоторые его наблюдения и выводы. Он был несомненно тщательным наблюдателем, далеко превосходившим философов, подобных, например, Анаксагору, который простодушно верил басням охотников и птицеловов о зверях и птицах. Сведения, сообщаемые Демокритом, большею частью точны и умело выбраны. Так, например, он обратил внимание на то обстоятельство, что лев, при значительном сходстве с кошкой, отличается от неё, между прочим, характером развития детенышей: тогда как котята рождаются слепыми, львята рождаются зрячими, т. е. с вполне открытыми глазами (Справедливость этого факта подтверждают новейшие зоологи, и проверить его нетрудно, обратившись к содержателям зверинцев. Сравн. т. I. „Жизни Животных" Брэма и новейшее сочинение Lydecker'a: The Royal Natural History,I, 367).
Сохранились также замечания Демокрита об образовании рогов у оленей, об изменении строения тела в зависимости от кастрации (например, у волов по сравнению быками), и о строении ткани паутины. Менее основательны, разумеется, теоретические соображения Демокрита, хотя и они нередко остроумны. В то время, как многие философы производили животное семя от мозга, Демокрит утверждал, что семя происходить от всех частей тела, т. е. высказал нечто подобное дарвиновской гипотезе пангенезиса. Он полагал, что плод пребывает в теле матери для того, чтобы тело будущего ребенка стало похоже на материнское. У утробного плода, по словам Демокрита, прежде всего образуются голова и живот: это справедливо в том смысле, что заметные конечности образуются поздно. Существуют доказательства, что Демокрит, действительно, изучал строение плода, но только не у человека, а у четвероногих, по всей вероятности—у коров; это видно из того, как он описывает способ прикрепления и питания утробного плода. В описании этом можно узнать так называемые дольки (Cotyledones), не свойственные человеку и состоящие из пучков ворсинок, между которыми открываются железы, причем здесь накопляется так называемое маточное молоко: применяя то же к человеку, Демокрит утверждает, что утробный младенец питается в матке молоком, выделяющимся из млечных желез, подобных грудным.
Демокрит один из первых назвал человека малыми миром (микрокосмом). Строение человеческого тела внушало ему чувство удивления; несмотря на это, он не увлекся какими бы то ни было телеологическим принципом. Он признает целесообразность организации, но нигде не говорит, чтобы орган был создан в виду той или иной цели. Как он, однако, далек от веры в слепой случай, показывает дошедший до нас подлинный отрывок, в котором сказано: „Ни одна вещь не происходить случайно (), буквально: напрасно, (бесцельно, зря, но также означаете и случайно), но все на основании и по необходимости".
В учении Демокрита мы видим, такими образом, вполне законченное и своеобразное миросозерцание и вместе с своими прямыми предшественником Левкиппом он стоит в стороне от всех тогдашних главных школ. Если Левкипп еще кое чем был обязан элейцам, против которых он, однако, выступил полемически, то этого никак нельзя сказать о Демокрите, элейское учение ему попросту чуждо. Ближе, по-видимому, родство Демокрита с Гераклитом и Протагором: однако и здесь различия чересчур перевешивают сходства, и оригинальность Демокрита—каково бы ни было его знакомство с предыдущими системами—выступает в том, что вместо отдельных проблесков и счастливых догадок мы видим у него вполне выработанное учение об относительности и в то же время достоверности чувственно воспринимаемых явлений. Эта сторона учения Демокрита также не всегда была правильно понимаема. Если кому чужд скептицизм, то, конечно, Демокриту. Для него мир явлений далеко не призраки, хотя этот мир и не совпадает с невидимыми, неосязаемыми, но мыслимыми атомами. Однако, еще в древности некоторые изречения Демокрита были неверно истолкованы. Так, один из учеников Эпикура, Колоть, был смущен вычитанными им „словами Демокрита, способными потрясти самую жизнь". Речь идет о положении Демокрита, что ни одна вещь не обладает именно теми, а не иными свойствами; то, что по изложению его сладко, горько или же тепло, холодно, или же окрашено, на самом деле есть лишь атомы и пустое пространство. Но именно в этих изречениях и обнаруживается различие между Демокритом и Протагором: у последнего мы видим аналогичное утверждение относительно субъективного характера всех воспринимаемых свойств, но изменчивым показаниям чувств не противопоставлено ровно ничего; Демокрит объясняет эту изменчивость: ощущения и всю психическую деятельность он приводит в тесную связь с движением атомов в пустом пространстве. Демокрит, без сомнения, может быть назван материалистом в том смысле, что все душевные процессы, с его точки зрения, сводятся на движения материальных атомов; но в то же время учение его имеет дуалистический характер, так как душа противополагается телу. Те из современных читателей, которыми покажется, что в учении Демокрита совмещаются противоречащие друг другу положения, одно — материалистического, другое — спиритуалистического характера, легко уяснят себе точку зрения Демокрита, если сопоставят ее с новейшим учением об эфире. Подобно тому, как теперь эфир часто противополагается „обыкновенной материи", Демокрит, в свою очередь, различал как бы два вида материи, одну—более грубую, другую—состоящую из гладких и круглых атомов, именно из «атомов огня» (Трудно сказать, признавал ли Демокрит атомы души тождественными или только сходными с атомами обыкновенного огня. Из того, что пишет Аристотель () нельзя вывести определенного заключения ни в ту, ни в другую сторону) и отличающихся особою подвижностью. Эти атомы, проникающие во все части организма, и производят, по Демокриту, все явления жизни, а вместе с тем и все душевные явления, которые Демокрит не отличает строго от физиологических процессов, хотя и признает тело сосудом души: но без души оно было бы неподвижными трупом. Аристотель поясняет мысль Демокрита о влиянии души на тело следующим сравнением: Дедал сделал подвижную фигуру Афродиты; комический актер Филипп объяснил это тем, что Дедал, вероятно, налил внутрь деревянного изображения подвижную ртуть. Душа, поэтому, играет у Демокрита роль особого вещества, самоподвижного и приводящего в движение содержащее ее тело, и, судя по показанию Лукреция, Демокрит утверждал даже, что между каждыми двумя телесными атомами находится один атом души. Малость и подвижность атомов души, по Демокриту, представляет опасность, так как эти атомы могут быть вытеснены из тела окружающим воздухом; это и предупреждается актом дыхания, при котором воздух вводит в тело новые атомы огня. При некотором желании приписывать древним предчувствие всех новейших открытий, было бы не трудно подставить на место огня кислород и сказать, что Демокрит предугадал новейшие учения о дыхании; но на самом деле его учение вытекало из простых наблюдений над животною теплотой, над спертым и свежим воздухом и т. п. Несколько раз, по поводу предшествующих Демокриту философских систем, было уже замечено, что философия унаследовала еще от мифологии взгляд на душу, как на вещество, связанное с животной теплотой, с дыханием, с движением воздуха; но смотря по характеру философской системы, эти взгляды значительно преобразовываются; у Демокрита они имеют несомненный материалистический характер, в указанном условном смысле—противоположения грубой материи и тонкой. В связи с этим учением о душе находится и объяснение сна и смерти. По Демокриту, если давление внешнего воздуха одерживает верх над сопротивлением атомов, образующих душу, то эти атомы выступают из тела и наступает смерть; если теряется лишь часть этих атомов, то следствием бывает бессознательное состояние, и жизнь может вернуться. Если лишь ничтожное число атомов души выступило из тела, то следствием бывает сон. Это учение о смерти и сне и послужило основанием басни, будто Демокрит воскрешал мертвых. Раз атомы души выделились из тела в таком количестве, что наступила смерть, эти атомы более неспособны вступить в тело, и самое тело не может более сохранить своего состава, а потому и подвергается гниению и распадению; однако, пока это разложение не наступило, труп сохраняет, по мнению Демокрита, некоторую способность к ощущению. Неудивительно, что Демокрит приписывал известные душевные способности не только животным, но н растениям, и что, по его мнению, атомы, образующее душу, распространены вообще по всей вселенной. Но это не психическое содержание вселенной, не „мировая душа" Платона; ближе всего оно подходить к тому понятию, которое господствовало еще сравнительно недавно в физике под названием теплорода.
Такое учение, конечно, не могло понравиться Платону: его антипатия к Демокриту была замечена еще в древности и подала повод к крайне сомнительному утверждению, будто Платон торжественно сжег бывшие у него книги Демокрита. Но и Аристотель, при всем высоком уважении к Демокриту, часто выступает против него полемически, в особенности же когда речь идет о целесообразности органического мира. Видеть в организации животных и растений лишь действие механических сил, это, по Аристотелю, то же самое, как если бы кто-либо утверждал, что причиною прокола, сделанного хирургом страдающему водянкой, является не цель излечения больного, а движение ланцета. Но здесь мы и видим, как велико различие между механическими миросозерцанием Демокрита и аристотелевской телеологией. Аристотель постоянно упрекает Демокрита в том, что последний довольствуется описанием явлений,—простыми утверждениями, что то или иное всегда так бывает,—и не задается вопросом о причинах. Упреки не вполне основательные, так как причина явления для Демокрита во всех случаях заключалась в движении атомов. Вопрос следовало поставить иначе: возможно ли объяснение всех явлений механическими причинами? Величайшей потерей для истории философии и науки служит утрата сочинений Демокрита, хотя бы потому, что теперь мы совершенно лишены возможности судить о том, не содержалось ли у Демокрита хотя намеков на отвергнутое Аристотелем механическое объяснение целесообразности? Я полагаю, однако, что на этот вопрос можно почти с уверенностью ответить отрицательно; невозможно допустить, чтобы такая важная для Аристотеля сторона учения Демокрита ускользнула от его внимания. По всей вероятности, попытки к объяснению не шли у Демокрита дальше утверждения, что все целесообразные приспособления следует приписать легкой подвижности атомов души, при чем движения этих атомов и служат ответом на различные внешние влияния: пример такого объяснения мы уже видели в выставленной Демокритом теории дыхания. Не менее ясно обнаруживается такая же механическая тенденция и в выставленной Демокритом теории чувственного восприятия. Теория эта, очень долго влиявшая на умы, сводится к тому, что все вообще предметы внешнего мира выделяют истечения, из которых составляются копии или образы () этих предметов; непосредственное соприкосновение этих образов с веществом нашей души достигается таким образом, что атомы души идут навстречу атомам, составляющим образы, и сталкиваются с ними. Теория эта, довольно близкая к учению Эмпедокла о зрительных ощущениях, но более выработанная и приведенная в тесную связь с атомистикой, в высшей степени замечательна, как попытка истолковать в механических терминах основные элементы, из которых слагается сознание. Не менее любопытна и чисто физиологическая сторона этого учения, состоящая в том, что все вообще чувства, в конце концов, представляют видоизменения чувства осязания, причем, в зависимости от того или иного атомистического строения данного органа чувств, видоизменяется и самое ощущение. С особенной подробностью рассмотрел Демокрит чувство зрения: по его мнению, отделяющиеся от предметов тонкие образы проникают в зрачок, отражаясь от влаги, где и производится ощущение; проходя сквозь воздух, эти образы в значительной мере помрачаются; не будь мутной среды, затемняющей изображения предметов, наше зрение было бы настолько ясным, что мы могли бы видеть муравья, если бы он ползал по небесному своду. Проникновению смешанных и запутанных образов в наш глаз Демокрит приписывает обманы зрения и галлюцинации. Для того, чтобы получилось полное и отчетливое восприятие, необходимо полное проникновение внешнего образа в данный орган чувств и надлежащее распространение полученного впечатления по всему телу, а это, в свою очередь, требует различных благоприятных условий. Демокрит принадлежит к числу тех философов, которые признают, что подобное влияет на подобное; сверх того, он указывает и на более специальные условия: так, например, по словами Демокрита, для наиболее ясного зрения необходимо, чтобы глаза были влажны. Он вполне допускает, что некоторые впечатления, идущие от внешнего мира, вовсе не воспринимаются нами; в связи с этим находится и его утверждение, что с одной стороны—животные, с другой — боги вероятно обладают и такими ощущениями, которые совершенно чужды и недоступны для человеческого восприятия. Замечательно, что Демокрит предвосхитил, между прочими, теорию Ломброзо и других новейших писателей, связывающих гениальность с помешательством. Он утверждал, что высокое поэтическое творчество неизбежно связано с некоторым душевным расстройством.
Полная оценка учения Демокрита будет дана в другом месте, при подробном анализе его атомистической физики. Однако, и сказанного достаточно для того, чтобы определить наше отношение к основателю атомизма. Попытка некоторых историков философии превратить Демокрита в рационалиста едва ли найдет многих последователей. Отличительной чертой учения Демокрита является, наоборот, эмпиризм в самом прямом значении этого слова. Он, конечно, утверждает, что наши чувственные восприятия не дают нам полного представления о реальности; он часто сожалеет о несовершенстве наших чувств, не позволяющих нам созерцать малейшие частицы тел, т. е. непосредственно наблюдать движения атомов, составляющие, по Демокриту, ту самую высшую реальность, которую другие философы видели в различных сверхчувственных началах. Атомы Демокрита, конечно, также сверхчувственны, т. е. невидимы, неосязаемы, неслышимы; но их природа, их движения, их свойства слишком явно связаны с чувственно воспринимаемыми свойствами тел, для того, чтобы заслужить названия некоторого трансцендентного принципа. Признавая атомы настоящими реальностями, Демокрит, однако, не видел бездны между миром, постигаемым умом, и миром явлений; не мог видеть уже потому, что с его точки зрения, чувственное восприятие не отличается существенно от мышления. Мир атомов не противополагается миру, воспринимаемому зрением, слухом, осязанием, но служит прямой основой этого последнего и относится к нему, как оригинал к копии. Наши чувства доставляют нам неполное и несовершенное знание, но только потому, что они недостаточно тонки; отсюда нетрудно было бы вывести, что все, изощряющее наши чувства или искусственно усиливающее их остроту и проницательность, приближает нас к познанию действительности—вывод в высшей степени важный для науки новейшего времени, которая осуществила на деле такое усиление наших органов чувств, снабдив их целым арсеналом приборов и других средств исследования.
Из предыдущего ясно, что Демокрит, хотя он, судя по всему, что нам известно, сделал немногое для разработки идеи эволюции, должен, однако, считаться одним из важнейших предшественников современного нам естествознания, так как по духу учения, по методами исследования, он подходить к новейшему научному миросозерцанию ближе, чем Аристотель. Из всех философов древности, Демокрит по преимуществу заслуживает названия естествоиспытателя и ученого. Уступая Аристотелю и по количеству знаний, и по способности к дедуктивному мышлению, он является не только прямым его предшественником в области индуктивного исследования, но и провозвестником начал, чересчур опередивших свою эпоху. Поэтому, даже крупный литературный талант Демокрита, позволивший многими писателям древности ставить его, как стилиста, наравне с Платоном—и стало быть выше Аристотеля—не спас его сочинений; а чрезвычайная ясность изложения, свидетельствующая о ясности мысли, не могла дать учению Демокрита перевес над теми течениями, которые исходили от Сократа, Платона и Аристотеля. Конечно, в этом виною не одна неподготовленность современников; в самом учении Демокрита скрывались начала, которые трудно было бы отстоять даже во всеоружии новейшего естествознания. Вопрос о превращении внешнего импульса в ощущение был решен чисто формальными образом; и хотя даже в наше время раздаются голоса в пользу этого решения, но удовлетворить оно могло немногих, особенно в эпоху, когда в развитии греческой философии произошел поворот от внешнего мира к внутреннему, от физики—к учению о познании и к вопросам этики.
Сведения о жизни Левкиппа почти отсутствуют, да и биография Демокрита известна нам далеко не с достаточной полнотою. Прозвище „смеющегося" философа, которое придавали Демокриту, по всей вероятности, относится к жизнерадостному настроению его учения, а никак не к привычке смеяться. Льюис, однако, верит тому, что соотечественники Демокрита были,, в действительности, глуповатыми (позволю себе применить этот термин) и доставляли Демокриту «неистощимый материал для смеха». Сюда же относится басня о том, что сограждане Демокрита пригласили Гиппократа освидетельствовать философа, которого они сочли помешанным; Гиппократ, будто бы, нашел, что мнимо безумный — самый умный человек в своем городе. Этого предания Льюис не сообщает, но зато он с самым серьезным видом рассказывает о том, что Ксеркс оставил в Абдере своих магов для обучения юного Демокрита. К сожалению, более осмотрительная историческая критика показала, что эта басня представляет хронологическую невозможность, косвенно опровергаемую самим Льюисом несколькими строками выше, когда он утверждает, что Демокрит родился в 80-ую олимпиаду, стало быть около 460 г. до начала нашей эры. Замечу, что, вообще, глава, посвященная Льюисом Демокриту, отличается крайне поверхностным изложением. Так например Лейбниц был бы, конечно, крайне изумлен, если бы мог прочесть утверждение Льюиса, что его «Монадология» есть не более как атомизм, выраженный лишь в новых терминах, причем Льюис основывается лишь на том, что как монады, так и атомы „сами по себе невесомы", и совершенно упускает из виду, что монады коренным образом отличаются от демокритовских атомов своим нематериальным и даже непротяженным характером и чисто динамическим значением (в противоположность кинетическому). Оправданием для Льюиса может послужить разве то обстоятельство, что и в его „Истории философии" ровно ничего нельзя узнать о монадах Лейбница. К Лейбницу Льюис относится, впрочем, с высокомерием, едва ли уместным, если принять во внимание, как мало изучил Льюис учение Лейбница. Этого философа он обвиняет, например, в плагиате у Спинозы, в совершенном непонимании Локка и т. п., и причисляет его к картезианцам. Хорошо еще, что Льюис допускает „некоторое уклонение" от идей Декарта (правильнее было бы сказать, что во многом Лейбниц—антипод картезианцев), что и приписывает „влиянию Платона и Демокрита". Не удивляюсь после этого, что один из философски образованных русских писателей, а именно Кавелин, не мог равнодушно слышать о книге Льюиса, хотя это, конечно, уже слишком суровое отношение; нельзя отвергать, что некоторые учения (особенно английские и французские) изложены Льюисом с замечательной ясностью и большим литературным талантом.— Безуспешно, хотя и с большой осторожностью, защищает некоторые взгляды Льюиса А. Ланге. На стр. 128, т. I (Gesch. d. Materialismus, 3 Aufl., 1876) он пишет например: „Неосновательно пользоваться смешными преувеличениями Валерия Максима и неточностью одной цитаты у Диогена (Лаэртского), чтобы совсем выбросить за борт всю историю пребывания Ксеркса в Абдере". Но дело вовсе не в этом, а в том, когда был Ксеркс в Абдере. Почти достоверно, что Демокрит был ровесником Сократа или несколько моложе. Стало быть он родился после 470 г., тогда как Ксеркс умер раньше этого. Во всяком случае, в тексте книги (стр. 10) сам Ланге прямо утверждает, что „предание об обучении Демокрита персидскими магами не имеет исторического основания". А это и требовалось доказать... Гораздо важнее пустячного вопроса о магах—решить вопрос об отношении Демокрита к Протагору. Говоря о Протагоре, я уже заметил, что по всей вероятности Протагор был лет на двадцать старше Демокрита и никак не мог быть его учеником. Обратное влияние Протагора на Демокрита хотя не невероятно, но существенным считать это влияние нельзя, и Виндельбанд например крайне преувеличивает дело, излагая историю атомизма так, как будто главное отличие Демокрита от Левкиппа явилось последствием влияния Протагора, хотя он в тоже время допускает, что к некоторым положениям Протагора Демокрит отнесся полемически. Достоверно известно, что Демокрит писал против некоторых софистов, хотя нельзя сказать, имел ли он при этом в виду именно Протагора. И действительно, положение: „человек есть мера всего" не могло быть усвоено Демокритом в том субъективном смысле, в каком оно было высказано, так как с его точки зрения самая психическая природа человека есть результат движения атомов, и это движение является в конце-концов, мерою всего, в том числе и человека со всеми его восприятиями.
Космогония Демокрита значительно страдает от того, что этот философ, несмотря на свое уважение к математике (в чем он сходится с Платоном), остался в стороне от развития астрономических познаний, которому способствовали, главным образом, пифагорейцы. Так например, подобно Анаксагору, он не признавал еще шарообразности земли, но представлял себе её фигуру подобной диску. Замечу, что хотя, несомненно, Демокрит не признавал землю шаром, но не совсем легко установить, какую именно фигуру он ей приписывал сведения по этому предмету находятся в источнике далеко не первоклассном (а именно у псевдоПлутарха) и текст не совсем ясен, а именно сказано, что Левкипп представляли себе землю в виде тимпана, тогда как „Демокрит с поверхностью в виде диска и выдолбленною в середине ()". Слова эти допускают двоякое толкование и трудно решить, что именно правильно. Можно допустить, что Демокрит придавал земле фигуру настоящего метательного диска, т. е. считали ее несколько утолщенною в середине, почти чечевицеобразною и полою, т. е. внутри пустою; по другому толкованию, дело следует понимать так, что земля имеет блюдцевидную или тарелкообразную форму, т. е, представляет в средней своей части впадину. Первоначальное значение слова () есть полый, пустой в середине (например дутое золото, в противоположность массивному); однако и другое значение (углубленный, представляющий впадину) очень употребительно, особенно при географических описаниях. Вопрос останется нерешённым, пока не будут найдены какие либо другие, более ясные комментарии к учению Демокрита. Деллер раньше склонялся к первому мнению, но теперь, под влиянием исследований Шефера (Scliiifer, Astronomische Geographie der Grie chen, Flensb. 1870, S> 14) принимает второе мнение, по которому земля представлялась Демокриту вогнутой по середине, Кажется, действительно, это мнение более основательно, так как допущение пустоты внутри земли, вероятно, было бы отмечено Аристотелем, как особенность чересчур характеристичная, тогда как блюдцеобразная форма не представляла существенного отличия от старинных представлений, свойственных еще первыми ионийским философами. Мне кажется, что и пресловутый спор о том, придавал ли Демокрит атомам весомость, в смысле стремления к падению вниз, должен быть рассматриваем не отдельно, как это часто делают, но в связи с географическими представлениями Демокрита. Платон, признавая шарообразность земли, имел полное основание утверждать, что во вселенной, в строгом смысле слова, нет ни верха, ни низа. Гораздо труднее было отделаться от обыденных представлений о верхнем и нижнем Демокриту; он придавал земле форму, во всяком случае, близкую к круглой доске, у которой уже нельзя признавать все части поверхности равнозначащими, а поэтому нельзя придавать одинакового значения и всем нормалям, т. е. прямыми, перпендикулярным к поверхности. Возможно, поэтому, что представления Демокрита о движениях атомов по двум противоположным направлениям имели довольно смутный характер, так что он, действительно, должен был отличать во вселенной верх от низа. Но тогда и спор о весомости получает иной характер, так как невозможно отрицать, что Демокрит говорили о движении атомов вверх и вниз, и необходимо лишь установить, следует ли это выражение понимать в буквальном и безусловном смысле или в переносном (т. е. в смысле туда и сюда) и относительном. Последнее можно было бы утверждать с уверенностью лишь при допущении шарообразности земли. (Сравн. A. Brieger. Die Urbe wegung tier Atome und die Weltentstehung bei Leukipp und Demokrit, Halle 1884; и H. Liepmann, Die Mechanik der Leukipp Demokritischen Atome, Leipz. 1885 и Lass witz, Gescbichte der Atomistik), а также рассуждения Целлера и Ланге и II часть моей книги, где будет рассмотрена, между прочими, история атомистики.
Из новейших попыток отстоять точку зрения Демокрита любопытны работы Лассвица. Этот автор отстаивает и новейшее кинетическое мировоззрение, по духу родственное учению Демокрита, главным образом, против чрезмерных требований, предъявляемых к атомистике теорией познания. По мнению Лассвица „движущиеся атомы не есть простая наглядная вспомогательная гипотеза; в понятии их фиксированы те элементы содержания нашего сознания, которые делают ощущение, объективированное в пространстве и во времени, доступными математическому анализу... Разумеется, атомы не представляют чего либо трансцендентного, но представляют подчиненное известной законности содержание сознания и в этом смысле имеют объективную реальность". (См. Lasswitz в Ѵиег eljahrsscbr. f. wiss. Phil., 1885 и его же Atomistik und Kriticismus). Разбор этих и подобных взглядов будет дан в III ч. моей книги, здесь же он может быть обойден по той причине, что Демокрит еще не мог различать между объективною реальностью, соотносительного с субъектом, и той реальностью, которую он придавал своим атомам, объяснявшим свойства самого субъекта, причем ощущение и мысль прямо выводились из движения. Демокрит придавал относительный характер лишь вторичным свойствам тел, каковы например сладость, влажность и т. п. тогда как комбинации атомов или то, что он называли схемами, существуют, по его мнению, сами по себе ().