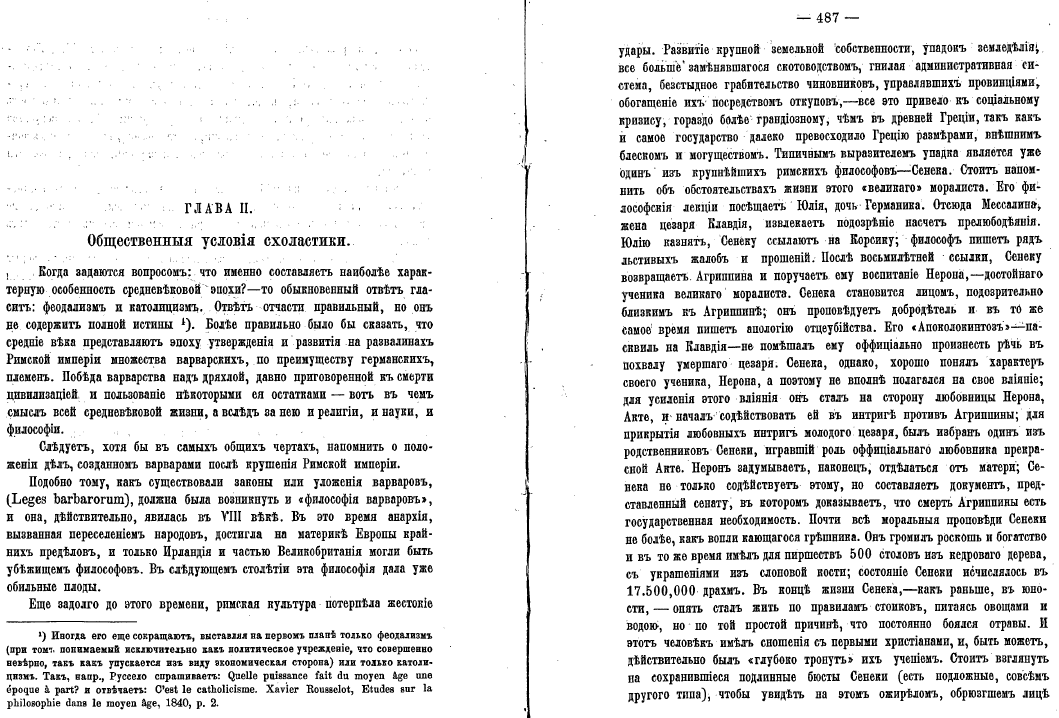
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ТОМ 2
ГЛАВА II.
Общественные условия схоластики.
Когда задаются вопросом: что именно составляет наиболее характерную особенность средневековой эпохи? - то обыкновенный ответ гласит: феодализм и католицизм. Ответ отчасти правильный, но он не содержит полной истины.
Иногда его еще сокращают, выставляя на первом плане только феодализм (притом, понимаемый исключительно как политическое учреждение, что совершенно неверно, так как упускается из виду экономическая сторона) или только католицизм. Так, напр., Руссель спрашивает: Quelle poiesance fait du moyen age une epoque й part? и отвечает: O'est le catholicisme. Xayier Rousselot, Etudes sur la philosophie dans le moyen age, 1840, p. 2.
Более правильно было бы сказать, что средние века представляют эпоху утверждения и развития на развалинах Римской империи множества варварских, по преимуществу германских, племен. Победа варварства над дряхлой, давно приговоренной к смерти цивилизацией, и пользование некоторыми её остатками - вот в чем смысл всей средневековой жизни, а вслед за нею и религии, и науки, и философии.
Следует, хотя бы в самых общих чертах, напомнить о положении дел, созданном варварами после крушения Римской империи.
Подобно тому, как существовали законы или уложения варваров, (Leges barbarorum), должна была возникнуть и «философия варваров», и она, действительно, явилась в VIII веке. В это время анархия, вызванная переселением народов, достигла на материке Европы крайних пределов, и только Ирландия и частью Великобритания могли быть убежищем философов. В следующем столетии эта философия дала уже обильные плоды.
Еще задолго до этого времени, римская культура потерпела жестокие удары. Развитие крупной земельной собственности, упадок земледелия; все больше заменявшегося скотоводством, гнилая административная система, бесстыдное грабительство чиновников, управлявших провинциями, обогащение их посредством откупов, - все это привело к социальному кризису, гораздо более грандиозному, чем в древней Греции, так, как и самое государство далеко превосходило Грецию размерами, внешним блеском и могуществом. Типичным выразителем упадка является уже один из крупнейших римских философов - Сенека. Стоить напомнить об обстоятельствах жизни этого «великого» моралиста. Его философские лекции посещает Юлия, дочь Германика. Отсюда Мессалина, жена цезаря Клавдия, извлекает подозрение насчет прелюбодеяния. Юлию казнят, Сенеку ссылают на Корсику; философ пишет ряд льстивых жалоб и прошений. После восьмилетней ссылки, Сенеку возвращает Агриппина и поручает ему воспитание Нерона, - достойного ученика великого моралиста. Сенека становится лицом, подозрительно близким к Агриппине; он проповедует добродетель и в то же самое время пишет апологию отцеубийства. Его «Апоколокинтоз» -пасквиль на Клавдия-не помешал ему официально произнести речь в похвалу умершего цезаря. Сенека, однако, хорошо понял характер своего ученика, Нерона, а поэтому не вполне полагался на свое влияние; для усиления этого влияния он стал на сторону любовницы Нерона, Акте, и начал содействовать ей в интриге против Агриппины; для прикрытия любовных интриг молодого цезаря, был избран один из родственников Сенеки, игравший роль официального любовника прекрасной Акте. Нерон задумывает, наконец, отделаться от матери; Сенека не только содействует этому, но составляет документ, представленный сенату, в котором доказывает, что смерть Агриппины есть государственная необходимость. Почти все моральный проповеди Сенеки не более, как вопли кающегося грешника. Он громил роскошь и богатство и в то же время имел для пиршеств 500 столов из кедрового дерева, с украшениями из слоновой кости; состояние Сенеки исчислялось в 17 500 000 драхм. В конце жизни Сенека, -как раньше, в юности, - опять стал жить по правилам стоиков, питаясь овощами и водою, но по той простой причине, что постоянно боялся отравы. И этот человек имел сношения с первыми христианами, и, быть может, действительно был «глубоко тронут» их учением. Стоить взглянуть на сохранившиеся подлинные бюсты Сенеки (есть подложные, совсем другого типа), чтобы увидеть на этом ожирелом, обрюзгшем лице следы разочарования и пресыщения жизнью. Высоконравственные проповеди Сенеки патетичны, однако, не дышат искренностью, опытный психолог тотчас отличит этот, напускной пафос, от мужественной, сильной проповеди, первых распространителей христианства. Христианство мало - помалу становилось великой социальной силой. Но оно вовсе не разрушило коренных основ социального строя древности; оно лишь ускорило политическую гибель Рима и придало силу варварским народам и государствам. Рабство, разъедавшее римскую империю и несколько смягчившееся в эпоху её падения, далеко не было упразднено христианством. Несмотря на все свои демократически элементы, христианство не вполне разрушило римский строй, а соединило, его с варварскими элементами. На первых порах, оно, правда, не всегда благоприятствовало централизации и часто держало сторону феодалов против королевской власти, стоит прочесть повествования Григория Турского, о временах Меровингов. Лишь мало - помалу, к концу феодального периода, церковь становится союзницею централизующей светской власти, первоначально она, наоборот, - противопоставляет ей свою собственную децентрализацию, внешним образом выраженную в верховенстве Рима и проявившуюся в борьбе. между папством и императорством.
Феодальная организация долго не могла примириться с идеей государственного единства. Стоит вспомнить, как зарождались первые средневековые монархии. Когда зашла речь о дележе военной добычи, простой воин воспротивился тому, чтобы церковный сосуд был взят Хлодвигом: «ты возьмешь лишь то, что и тебе достанется по жребию». Равноправность всех свободных людей, носящих оружие, - такова главная черта варварского строя, и она глубоко отражается, на всех понятиях того времени. Но это не та индивидуальная свобода, какую мы видим в новейшей истории. Личность выступает не сама по себе, а как член рода. Это облегчило, переход к сложным, ленным, отношениям. Родовой и общинный быт, господствовавший у варваров, был внесен ими во все учреждения и господствовал над их понятиями. Он отразился даже на отвлеченных теологических спорах. Те самые короли и вожди, которые являлись, представителями возникающей централизации, часто проявляли вполне варварский образ мыслей. Напрасны были все попытки богословов убедить Хильперика в истинности учения о Троице; единство трех лиц представлялось ему совершенно непонятным; он мог бы понять только единство рода. Хильперик не только отверг догмат триединства, но и пытался отменить его королевским декретом. Лишь со времен Карла Лысого короли начинают усваивать догмат предопределения, слишком резко противоречивший их понятиям о свободе - если не воли в метафизическом смысле слова, то, по крайней мере, в смысле свободы высших сословий и необузданного личного произвола. Учение церкви о воздаянии кесарева - кесарю было, наоборот, легко понято и усвоено: более энергичные короли пытались вести себя, как византийские императоры, встречая, однако, упорное сопротивление духовенства и феодалов. Из всей системы римского управления особенно легко привилась система сбора податей; однако, и здесь приходилось бороться с упорством ленных владельцев, считавших для свободного человека позорною уплату какой бы то, ни было дани. Внутри каждого рода господствовало подчинение личности целому; но отдельные роды свободных людей с их крепостными представляли единицы, добивавшиеся полной самостоятельности.
Наряду с ними явились новые самостоятельные единицы, давно известные Востоку, как, напр., буддизму, но в классическом мире появлявшиеся разве спорадически (примером могут служить союзы пифагорейцев). Речь идет о монастырских общинах с их полной экономической автономией, собственным производством, распределением, напоминающим утопии новейших коммунистов, своими отдельными уставами. Здесь также личность в значительной мере подавлялась и поглощалась общиной; последняя противостояла всему миру, как самостоятельный индивидуум, допуская лишь высшее единство; называемое вселенскою церковью. Все эти социальные отношения не могли не оставить глубоких следов в понятиях людей. Немногие историки философии поняли это, и вот почему многое из того, что пишут о спорах средневековых школ, оказывается гораздо более схоластическим и педантичным, чем сама схоластика. Представим себе историков отдаленного будущего, ровно ничего не знающих о наших социальных, политических, нравственных, научных движениях.
Какими пустыми схоластическими тонкостями покажутся им наши нынешние споры об экономическом материализме, о роли личного элемента в истории, о том, следует ли допустить взаимодействие между различными факторами общественной и психической жизни - или же необходимо признать один из этих факторов основным, а во всех прочих видеть только надстройки. А между тем в этих спорах воплощаются интересы известных общественных классов, в них можно найти ответ на наиболее жгучие злобы дня. Но ведь и в эпоху схоластики люди жили, боролись и страдали. Историки не видят этой жизненной подкладки и довольствуются тем, что признают споры между реалистами и номиналистами последствием того или иного понимания Платона и Аристотеля. В начале развития схоластики, Аристотеля знали только по его логике, а Платона по его Тимею; да и то были известны лишь плохие латинские переводы. Логика, правда, всегда привлекает умы, только что начинающие мыслить научно; но главной особенностью схоластической философии является не логика, а диалектика. Аристотель относился к диалектике довольно отрицательно; он написал целый трактат в опровержение софистических ухищрений и признавал диалектику скорее помехою, чем содействием науке. Философия Платона целиком построена на диалектике, понимаемой, однако, в особом смысле слова, а именно как наука, ведущая к познанию истинных реальностей, т. е. идей. Об этой диалектике схоластические философы имели лишь туманные представления. Их диалектика была, ближе к эристике софистов; она была основою искусства диспутировать об отвлеченных вопросах. Страсть к диспутам, характеризующая средневековую философию, находится в тесной связи с тогдашним строем. В монастыри поступало немало лиц знатного происхождения; вместо меча, они сражались с противниками словом. И пером; при случае не отказываясь и от менее мирного оружия. Странствующие богословы и философы, вызывающие на публичные состязания своих противников и гордящиеся числом одержанных; побед, немногим отличаются от странствующих рыцарей. Впрочем, и способы борьбы были нередко очень сходны в обоих случаях. От слов и перьев ученые диспутанты часто переходили к грубому насилию, и если сами не имели достаточно средств для вооруженного подкрепления своих доводов, то прибегали к разным знатным защитникам.
В самом начале схоластической эпохи мы видим замечательную борьбу между сторонниками двух противоположных принципов-предопределения и свободы воли. Это было продолжением старинного спора между двумя великими богословами-Августином и Пелагием.
Вопрос о свободе воли не может быть решен сколько - нибудь удовлетворительно до тех пор, пока он не переносится с метафизической почвы на чисто психологическую. В своем месте мы постараемся; доказать, что правильное решение этого вопроса, устраняет всякие антиномии.
Здесь уже можно заметить, что психологическую свободу воли следует противопоставлять не необходимости, а непроизвольности. Человек, движущийся вследствие сознательного волевого импульса, напр., сознательно берущий в руку перо, движется свободно, т.е. произвольно; человек, падающий на землю вследствие внешнего толчка, или автоматично отдергивающий обожженную руку, движется несвободно, т. е. непроизвольно, - в первом случае не отличаясь от любого тяжелого предмета, во, втором- реагируя на внешнее раздражение подобно тому, как и все вообще организмы и даже вырезанные из них, но еще не разложившиеся части. Но во всех случаях, движения, как свободный, так и насильственный и автоматичные, происходят необходимым образом, т. е. совершаются согласно с психической и физической организацией человека и согласно с законами механики.
Совсем в ином смысле понималась свобода воли, пока ей придавалась чисто метафизическая окраска, т.е. пока эта свобода смешивалась с отсутствием всякой причинности или, что - то же, с полной независимостью от каких бы то ни было условий. Так как все действия человека всегда обставлены известными условиями, то ясно, что абсолютная свобода воли стоит вне всякого опыта.
Опыт убеждает нас в зависимости всякого явления от условий; поэтому, если добытое путем отвлеченного мышления понятие о безусловной свободе воли незаметно подставляется на место психологического понятая о произвольности известных движений и, вообще, актов, то неизбежно является роковое противоречие или, принимая термин Канта, антиномия. При этом, однако, не замечают, что истинное противоречие здесь заключается в ошибочном сравнении фиктивного метафизического понятия о безусловной свободе с реальным понятием о необходимости, как совокупности условий, при которых происходит всякое данное явление. Сравнивать можно лишь однородные понятая, а никак не призраки с действительностью.
Однако, многие призраки, как показала новейшая антропология, имеют в основании опыт; это относится и к метафизическими призракам. Иллюзия безусловной свободы воли есть прежде всего отражение недостаточного знания условий, при которых происходят сложные психические явления. Но сверх того - и это главная причина её живучести- она является и энергичным моральным протестом против всякого внешнего принуждения и авторитета. Это обман, но порою значительно возвышающий личность человека.
Именно в такой форме представился вопрос уже первым крупнейшим защитникам принципа свободной воли. Следует, однако, заметить, что еще в древности Платон - и главным образом в том диалоге, который был всего лучше известен средневековым философам, а именно в Тимее, поставил вопрос об отношении между необходимостью и свободой на почву, обнаруживающую значительную глубину мысли этого философа во всем, что касается этических принципов. Платон высказал, что необходимость есть не что иное, как условие осуществления блага, -к которому оно относится, как средство к цели.
Но в эпоху падения классической культуры вопрос о свободе воли должен был принять менее отвлеченный характер. Его этическая, общественная, церковная и политическая сторона представлялась самою насущною в эпоху грубого Произвола, насилия и всеобщего брожения. И замечательно, что наиболее ревностный защитник свободы води вышел из той страны, где впоследствии - раньше, чем почти во всей Европе, явилась оппозиция политическому и церковному абсолютизму- страны Великой Хартии и Виклефа, а именно Англии. Передовым борцом за свободу воли был британский монах Морган, или в переводе Пелагий, т. е. морской.
Пелагий доказывал, что нравственное совершенствование человека зависит от него самого и допускал нравственную причинность, т. е. связь свободных актов с свободными мотивами. Вещи следуют одна за другою и связаны между собой. Если человек обязан избежать греха, то это значить, что он может сделать это; было бы несправедливо и нелепо вменять человеку в преступление то, чего избежать он не в состоянии. Если он не может избежать, то не имеет никаких обязанностей. Лишь после долгой борьбы и несмотря на то, что папа Зосима признал учение Пелагия вполне христианским, Августину и другим фаталистам удалось одержать победу над Пелагием на карфагенском соборе 418 года; однако, 19 епископов не подчинились решению, и в конце концов Августин стал советовать не проповедывать учения о предопределении «без соблюдения благоразумия». Действительно, он имел причины устрашиться последствий фаталистического учения после того, как в 426 г. монахи одного монастыря (в Адрумете) заявили, что «не будучи в состоянии делать добра по своей воле, они не считают грехом не повиноваться повелениям Божиим».
В чистом виде учение Августина никогда не было усвоено; но оно значительно содействовало упрочению внешнего церковного авторитета, а потому и было признано ортодоксальным.
Августин, действительно, явился самым ярким выразителем своей эпохи. Всеобщее разложение и давление варварства на цивилизацию внушило мысль, что спасение этой цивилизации возможно лишь путем усиления дисциплины и авторитет церкви - единственная сила, которою располагал одряхлевший римский мир. Как бы мы ни смотрели на учение Пелагия с нашей точки зрения, многим людям того времени оно должно было представиться вносящим начало личного произвола, а вместе с тем анархии, как нравственной, так и умственной. Августин не был слепым фанатиком; его собственные взгляды на человеческую психологическую свободу, казалось, должны были привести его к полному согласию с Пелагием, с которым он долгое время был связан личной дружбой. И если, тем не менее, Августин оказался вождем епископов, отстаивавших предопределение против свободы, то в этом обнаружилось стремленье к самосохранению, боязнь, чтобы только что окрепшая церковь не разложилась, вследствие отсутствия объединяющего авторитета. Сверх того, у Августина играли роль и чисто научные стремления; он не был детерминистом в новейшем смысл слова, однако, порою весьма близко подходил к такому детерминизму, от которого не отказались бы многие новейшие ученые.
Задолго до Декарта, Августин установил принцип, в силу которого достоверность самосознания является наивысшею из всех истин. Содержание нашего восприятия подвержено сомнению; но действительность воспринимающего субъекта никакому сомнению не подлежит, или, точнее, самый акт сомнения уже подразумевает с3уществование сознающего субъекта. Сомневаться и заблуждаться значит мыслить, а мыслить значит быть мыслящим существом. Сверх того, Августин признавал единство психической деятельности, он рассматривал ее не в разрозненных функциях, но как живое целое.
На первый взгляд можно подумать, что такой субъективизм должен был привести Августина к индивидуалистическим стремлениям. Нетрудно, однако, проследить, каким образом от учения о сознании и воле, которой он придал главную роль во всех психических процессах, Августин пришел к учению, превращающему свободу волн в чистую иллюзию. Дело в том, что верховенство воли Августин допускал лишь относительно тех психических явлений, которым он придавал подчиненное значение. Внешний и внутренний опыт, по Августину, направляется волею, но, воля не играет роли по отношение к высшим истинам, недоступным опыту и постигаемым разумом, и верою. При этом разумное постижение Августин признает зависящим не от человеческой, а от высшей воли, -стало быть, вполне несвободным; что же касается веры, то хотя она не зависит от принудительного действия разума, но не может считаться и абсолютно свободною. И хотя Августин часто говорит о том, что вера зависит от доброй воли и согласия верующего. Дело в том, что, развивая свое учение об откровении, Августин пришел к мысли, о непреодолимой его силе; поэтому, в конце концов, предопределение подавляет свободу воли, низводящуюся на степень иллюзии.
Помимо церковных мотивов, руководивших здесь мыслями Августина, несомненно у него играли роль и научные соображения. Его попытка указать общие законы всемирной истории, как бы ни была, она слаба в деталях, замечательна для своего времени. И как у многих новейших детерминистов, учение об абсолютной причинности у Августина вовсе не приводит его самого к мистически - созерцательному идеалу; наоборот, оно требует мужественной борьбы, по крайней мере, в этой временной жизни, и лишь в будущем мире обещает блаженство бесстрастного созерцания.
Насколько научны были некоторые мотивы Августина, доказывается его отношением к вопросу об органической эволюции. Августин жил в IV и V веке, когда традиции греческой философии еще не вполне были утрачены и христианская теология искала примирения с учениями Аристотеля и Платона, взятыми в целом, а не с отрывками аристотелевской логики. Учение о специальных актах творчества не могло еще оказать всемогущего давления на умы, и мы видим, что Августин проводит резкое различие между сотворением зародышей и развитием из них более сложных органических форм. Августин допускает два рода зародышей - видимые, наблюдаемые у растений и животных, и невидимые, скрытые, требующие для своего развития известных условий, между прочим - известного количества тепла и благоприятного сочетания между собою. Он допускает, таким образом, самопроизвольное зарождение, но рассматривает его вовсе не как чудо, а как последствие естественных законов; в этом смысле Августин пытается комментировать первую главу книги Бытия. Рассматривая рост дерева из семени, Августин замечает, что ветви и другие части возникают не внезапно, но постепенно и в известном порядке, и что все эти части заключены в семени, не своей материальной субстанцией, но причинною силою и возможностью. Аналогичным образом он представляет себе и весь мир: творческая сила создает небо и землю; но это были в сущности лишь «семена» или зародыши неба и земли. Заранее было, однако, предопределено, что отсюда произойдут небо я земля, и только поэтому материал назван в книге Бытия именем возникшего из него продукта. Таким образом, по Августину, создание существующего произошло идеально в мыслях творческой силы, но дальнейшее развитие произошло естественным путем, под влиянием ряда причин. То, что в мыслях творческой силы произошло одновременно, было создано лишь потенциально, но для своего действительного развития потребовало продолжительного времени, прежде чем приняло ту форму, которая известна нам в настоящее время.
См.1 Henry Cotterill, Does Science aid Faith in Regard to - Creation? bond. 1883. Gttttler, Lorenz Okcn und sein Verhaltn. zur modernen Entwickelungslehre, Leipz. 1884 и цитаты у H. Osborn'a, From the Greeks to Darwin New - York and London, 1694, pp. 71-74.
Несмотря на обращение к первичному творческому акту, создавшему неоформленные зародыши, идея эволюции здесь высказана яснее, чем в греческой философии.
Но прошли века, греко - римская философия была подавлена потоком варварства, и в IX веке, при первом возрождении философии, мы видим уже новые, почти самостоятельные попытки решить основные вопросы жизни и мысли. Сначала являются скорее грамматики, чем философы-таков Алькуин; в лице Иоанна Скота - Эригены мы видим, однако, философа, почти самородка. В Италии, где, как и в Византии, все еще уцелели остатки классической образованности, были крайне изумлены, узнав, что выходец из Ирландии, считавшейся почти краем света, варвар, не имевший сношения с почти истлевшим греко - римским миром, сумел перевести на латинский язык греческие сочинения, которые не без умысла приписывались Дионисию Ареопагиту, хотя подложность их подозревалась многими. Этим переводчиком был Иоанн Скот - Эригена, даже не духовное лицо.
Но особенно прославилось имя Эригены по причине полемики, начатой этим философом против монаха Готшалька и возобновившей спор между Пелагием и Августином. Как прежде, так и теперь, островитянин явился защитником свободы воли, но условия спора совершенно изменились. Пелагианство давно было признано ересью, учение Августина официально признавалось церковью, хотя на деле большинство богословов придерживалось середины; боясь уничтожить самое понятие о нравственной ответственности, они не принимали учения о предопределении со всеми его строгими логическими выводами. Пользовались им лишь настолько, насколько оно оказывалось необходимым для поддержания авторитета, который должен был подавлять всякую индивидуальную волю и в этом смысле являлся предопределяющим ее вплоть до малейших догматических и обрядовых тонкостей.
Однако, права разума поддерживались многими. По словам Скота Эригены, «авторитет проистекает из разума, а не разум из авторитета», и лишь с этой точки зрения он признавали философию ничем не отличающейся от религии, он еще вовсе не был склонен сделать философию служанкой теологии. Это не помешало его сторонниками решить затеянный им спор о свободе воли в его пользу посредством самого грубого авторитета, какой только может существовать, а именно - кулачного права.
Противником свободы води явился германский монах Готшальк. В молодости он был насильно отдан в монастырь своей матерью, и есть основание думать, что эта чисто биографическая черта значительно расположила его в пользу фаталистического учения: свое личное несчастие и вынужденную покорность судьбе он перенес и на всю вселенную. Так или иначе, Готшальк принадлежит к числу немногих верных последователей Августина: учение о предопределении, признанное ортодоксальными, плохо мирилось с средневековыми чувствами и понятиями; варварам не хватало для этого ни сознания о неизбежности погибели, свойственного дряхлеющим нациям, ни научной подготовки, позволяющей допустить неизменные законы явлений.
Учение Готшалька о предопределении вскоре встретило ожесточенную оппозицию. Епископ Гинкмар, друг Скота Эригены, передал обсуждение этого вопроса в 849 г. собору в Киэрси (Quiercy); Готшальк был осужден, публично высечен и принужден, при отвратительной обстановке, собственной рукой сжечь свои книги. Однако, у него явилось немало сторонников, и он мужественно отстаивал свои убеждения до самой смерти. Гинкмар послал ему в темницу формулу для отречения, но Готшальк с негодованием отверг ее. Таким образом, этот защитник предопределения и противник свободы воли выказал на деле силу воли, привлекшую к нему сочувствие многих светских и духовных лиц.
С другой стороны, защитник свободы воли, Скот Эригена, в свою очередь, должен был вскоре испытать, как трудно мыслить и действовать свободно, пока нет для этого условий в самой жизни. Он проповедовал, в сущности, род пантеизма и вовсе не отвергал неизменности законов природы: для всех причин, которые он называл «первичными», Скот Эригена допускал «неизменные правила» и различал «сотворенную природу» от «творящей». Раз даны «первичные причины», из них уже вытекает дальнейшее образование мира. В своих 19 книгах о предопределении, написанных против Готшалька по поручению Гинкмара, Скот Эригена, почтительно оспаривая Августина, однако, не вполне отвергает учение о предопределении, но требует, чтобы оно было понимаемо в чисто моральном смысле: праведный, действительно, предопределен к блаженству. Что касается морали, Скот Эригена пытался придать ей чисто интеллектуальное основание. Всякое зло есть лишь отрицание блага (Nihil malum nisi boni negatio). Ho разум имеет объектом благо; счастье человека состоит в развитии его ума.
Поэтому философия тожественна с религией. Видя в религии чисто моральный элемент, да еще основанный на разумном познании блага, Скот Эригена отвергал учение об аде, доказывая, что под адом следует подразумевать лишь угрызения совести. Такое учение не могло не возбудить против себя большинство духовенства, соборы гремели против него, сам Гинкмар отказался от своего друга, Пруденций из Труа и Флор Лионский «стерли его учение в порошок»; однако Скот Эригена имел партию при дворе Карла Лысого, написал по поручению этого короля еще сочинение против «истинного присутствия» и «пресуществления» и не бежал в Англию, как иногда утверждали.
В IX веке католицизм далеко не представлял достаточно объединенного целого и не обладал всеподавляющим авторитетом. Да и в прежних традициях западной церкви не было достаточных оснований для подобного абсолютизма. Так, в VI веке папа Григорий I говорит, что церковь требует веры не во имя авторитета, но на основании разума.
Еа quae assero nequaquam mihi ex hiictoritate credite, sed an vera sint ex ratio no pensate. Moral. 1. VIII, § 3.
Церковь еще не обладала могуществом, позволившим ей впоследствии сжигать десятки тысяч еретиков. Тем не менее, отдельные проявления грубой силы были часты в эпоху, когда эта сила господствовала во всех сферах общественной жизни. Еще не было системы религиозных преследований, но слишком часто разумные доводы уступали мечу и кулаку. В X веке новые смуты и войны грозили в конец уничтожить слабые зачатки философской и научной мысли. В XI и XII веке мы видим замечательные движения, известные под именем крестовых походов. Писатели, воображающие, что мир (или по крайней мере средневековый мир) управляется или управлялся когда - либо исключительно религиозными движеньями, слишком мало принимают во внимание то обстоятельство, что крестовые походы прежде всего были порождением только что окрепнувшей политической и экономической организации, именуемой феодальным строем, - при самом своем возникновении уже скрывавшей в себе элементы брожения и внутреннего разложенья. А между тем, при некотором знакомстве с тогдашними хрониками и другими документальными данными, нетрудно убедиться в том, что проповедь Петра Амиенского не могла бы иметь никакого успеха, если бы единственным мотивом, способным двигать массы населения, был религиозный экстаз. Доказательством служить неудача боле ранних попыток (напр., Сильвестра II), а также позднейших, когда собственно религиозный элемент далеко еще не иссяк, но отсутствовали уже общественные элементы, способные поддержать в массах экзальтацию, необходимую для похода в отдаленную страну из - за религиозной идеи.
Беспокойная, бурная жизнь тогдашнего рыцарства, насилия, совершаемые ими над равными себе и над низшими, - все это породило множество кающихся грешников, не желавших, однако, отказаться от привычного образа жизни: омовение своих грехов кровью неверных представляло перспективу, в высшей степени заманчивую. Иные спасались таким образом от законной кары, другие бежали от долгов, третьи действовали просто в силу подражания; и все эти искатели приключений увлекали за собою массу слуг и подавали пример низшим классам, а порою сознательно морочили толпу.
Организация монастырей, где собирались толпы народа и происходили чудеса, особенно способствовала расширению движения. По словам современника, один французский аббат, не имея достаточных денежных средств, искусственно напечатлел на своем лбу изображение креста и уверял народ, что получил эту печать от ангела. Посыпались подарки, и он стал впоследствии архиепископом в Кесарии и откровенно сознался в обмане.
О том, что многие крестоносцы имели с собою переодетых в мужское платье женщин легкого поведения и вообще вели далеко не духовную жизнь, современник (Бернольд) пишет: Sed et innumerabiles feminas secum habere поп timue - runt, quae naturalem habitum in virilem nefarie mutaverunt, cum quibus fornicat1 sunt, in quo Deum mirabiliter sicut Israeliticus pppulus quondam offenderunt". Были, конечно, и примеры героизма, напр., пленных рыцарей, не желавших, по требованию сарацинов, отречься от христианства. Богатейший материал относительно крестовых походов находится в Bongars, Gesta Dei per Francos, 1616 in folio (автор-кальвинист, живший в 1546-1612 г.).
В истории мысли крестовые походы имеют значение, как средство общения между западноевропейской и арабской цивилизацией. Но прежде, чем оценить значение арабского влияния, необходимо знать, что было выработано средневековою мыслью самостоятельно в течение X, XI и XII веков.
Главным представителем науки и философии конца X века является Герберт, ставший впоследствии папою Сильвестром II.
Десятый век был эпохой, когда западная Европа испытывала двойное бедствие: внутренние смуты и набеги норманнов. Епископы часто водили войска; один поэт тех времен говорить о «воинственных монахах».
Recueil des histoiree de France, t. X, p. 67, Adalberonis Carmen. Цитир. у Наигёаи, Hist, de la phil. scolastique 1882 (не следует смешивать с более ранним трудом того же автора о том же предмете).
Впрочем, даже двумя веками позднее, в Париже священники шли к алтарю с кинжалом, заткнутым за пояс и в сопровождении служителей, вооруженных таким же образом. В десятом веке клирики (clerici ribaldi) образовали род ордена, отличавшегося довольно светскими нравами, так что епископы должны были издавать декреты, запрещая клирикам «плясать в храмах и на кладбищах».
Появление в эту эпоху ученого и философа, подобного Герберту, казалось настоящими чудом, и неудивительно, что старинные писатели не могли считать его простыми смертным и производили Герберта от какого - то «Арвернского короля латинской расы», хотя на самом деле он происходил из бедной, незнатной семьи в окрестностях Орильяна. Поехав на богомолье в Барселону с одними графом, Герберт очутился по близости от Кордовы - центра мусульманской части Испании, и естественно явилось предположение, что он обязан всей своей ученостью арабами.
Сравни. Kousselot, Etudes sur la phil. dans le moyen age I, 93 и Abbe Fleury, Hist. ew.UaioRt.ique. Флёрв отвергает это мнение.
Однако, нет доказательств, чтобы Герберт достаточно знал по - арабски, а исследования Шаля (Chasles) относительно математических работ Герберта показали, что этот ученый и философ следовал скорее по стопам Боэция, чем арабских учителей: хотя он несколько усовершенствовал латинскую систему письменного счисления, однако, не усвоил арабских цифр; с основаниями же арабской системы он легко мог познакомиться чрез посредство купцов, даже не бывши в Кордове. По всей вероятности, Герберт значительно воспользовался арабской наукой, но только из вторых рук. Флери называет в числе его учителей испанца (вероятно, еврея) Иосифа. Но и этого было достаточно для того, чтобы изумить познаниями не только Галлию, но и тогдашнюю Италию, и когда Герберт приехал в Рим, на него смотрели, как на чудо света. К сожалению, из философских трудов Герберта издан в новейшее время лишь один, хотя некоторые рукописи его, по слухам, существуют во французских монастырях. Мы знаем, поэтому, достоверно лишь то, что Герберт пытался согласовать аристотелевские категории с учением Платона, насколько оно выразилось в Тимее. Существует, однако, поэма, написанная учеником Герберта, Адальбероном, где содержится любопытная космология, судя по намекам, принадлежащая Герберту. «Искусные философы, -сказано в этой поэме, -не объясняют конечной причины природы. Некоторые признают всеобщими началом огонь; другие полагают, что природа есть не что иное, как верховная воля божества. На самом деле, природа божества есть самое божество; не то следует сказать о человеке. Если божество, действительно, существует, то оно неподвижно: не изменяться, не переставать быть самими собою, -вот природа божества. Но что касается созданных существ, то каждое из них в момент рождения приобретает свою природу. Из тех существ, которые присоединяются к телам, некоторые доступны чувствами, другие нет. Первые изменяются и гибнут, и существуют вместе с телом, вторые присоединяются к бестелесным субстанциям и никогда не погибают». Это странное смешение демонологии с платоновскими учением об идеях, быть может, и было основанием для обвинений Герберта в колдовстве: открыто обвинять его стали после смерти, не стесняясь тем, что он был несколько лет папою, под именем Сильвестра II. У трех средневековых писателей можно прочесть о Герберте самые удивительные легенды, в которых играют роль и некромантия, и обольщение девицы, и даже перелеты через море на крыльях дьявола, посадившего путем обмана своего верного слугу на престол св. Петра. Это не удивительно в эпоху, когда епископ Равеннский Петр сделал открытие, что дьявол принял образ Ювенала, Виргилия и Горация; на этом основании епископ предлагал сжигать всех, кто читал римских поэтов.
В следующем столетии, под влиянием более упрочившихся общественных отношений, возникает настоящая философия феодальной эпохи, характеризуемая рядом словесных и письменных поединков из - за «универсалов» или всеобщностей. Писатели, видевшие в истории философии лишь преемство идей, вычитанных философами в книгах, выводили всю схоластику из одной фразы Порфирия, воспроизведенной по латыни Боэцием. Вот эта знаменитая фраза:
«Так как необходимо знать, что такое род, что такое различие, что вид, что свойство (proprium) и что случайный признаки (accidens), и знание - это важно, как для понимания учения Аристотеля о категориях, так и вообще для того, что относится к подразделению и к доказательству, то я постараюсь сделать для тебя краткий очерк, как бы в виде предисловия, того, что сказано об этом древними. Воздержусь от наиболее трудного и даже о самом простом скажу немногое. Не скажу даже о родах и видах, существуют ли они или же только даны просто в наших умах, и если существуют, то телесны ли они или бестелесны, и существуют ли отдельно от чувственных предметов или в этих предметах и около их (circa haec). Очень труден этот вопрос и требует более пространного исследования».
Боэций (Boethius) жил в конце V и начале VI века после P. X. См. исследование A. Jourdain, Eecherchea critiques sur l'ige et l'origine dee traductions latines d'Aristote, 2 ed. 1843.
Цитата эта, действительно, могла бы послужить эпиграфом к спору между реализмом (в схоластическом значении этого слова) и номинализмом. Но самый спор имеет гораздо более широкое значение, чем иногда принято думать, и отголоски его слышатся до сих пор, напр., в полемике между сторонниками органической теории общества и её противниками, а также в непрекращающейся борьбе между спиритуализмом и материализмом.
Замечу, что Спенсор указал на некоторое отдаленное родство отстаиваемой им органической теории общества с средневековым «реализмом».
Ср. Lange, Gesch. dee Materialismue, 3 - е Aufl. И, 168-176.