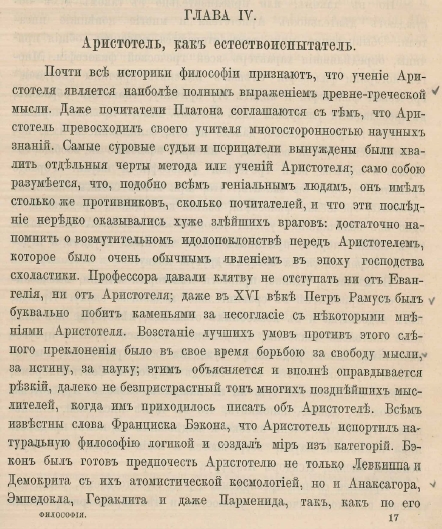
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА IV.
Аристотель, как естествоиспытатель.
Почти все историки философии признают, что учение Аристотеля является наиболее полным выражением древнегреческой мысли. Даже почитатели Платона соглашаются с тем, что Аристотель превосходил своего учителя многосторонностью научных знаний. Самые суровые судьи и порицатели вынуждены были хвалить отдельные черты метода или учений Аристотеля; само собою разумеется, что, подобно всем гениальным людям, он имел столько же противников, сколько почитателей, и что эти последние нередко оказывались хуже злейших врагов: достаточно напомнить о возмутительном идолопоклонстве перед Аристотелем, которое было очень обычным явлением в эпоху господства схоластики. Профессора давали клятву не отступать ни от Евангелия, ни от Аристотеля; даже в XVI веке Петр Рамус был у буквально побит каменьями за несогласие с некоторыми мнениями Аристотеля. Восстание лучших умов против этого слепого преклонения было в свое время борьбой за свободу мысли, за истину, за науку; этим объясняется и вполне оправдывается резкий, далеко не беспристрастный тон многих позднейших мыслителей, когда им приходилось писать об Аристотеле. Всем известны слова Франциска Бэкона, что Аристотель испортил натуральную философию логикой и создал мир из категорий. Бэкон был готов предпочесть Аристотелю не только Левкиппа и Демокрита с их атомистической космологией, но и Анаксагора, Эмпедокла, Гераклита и даже Парменида, так, как, по его словам, все эти мыслители дают принципы, в которых есть хотя бы „запах" опыта. Бэкон, конечно, знал, что у Аристотеля можно найти немало указаний на опытное знание. Но, по его словам, Аристотель справлялся с опытом не для выработки правильных предложений и аксиом, а для приспособления опыта к заранее созданной системе; и по мнению Бэкона, этим путем Аристотель причинил даже больше зла, „чем те из его новейших последователей, которые совсем оставили опыт".
Но в таком, или приблизительно в таком духе обсуждают деятельность Аристотеля и многие новейшие писатели. Обыкновенно при этом стараются выяснить общие причины, определившие характер всей греческой философии. Многие историки философии спешат выяснить причины „неудачи" греческой философии и видят эту причину, главным образом, в преобладании умозрения над опытом. Много пролито чернил по этому вопросу, однако, далеко не все, занимавшиеся им, поставили ясно другой вопрос, а именно: возможно ли, вообще, говорить о неудаче всей греческой философии и науки? Гораздо правильнее было бы сказать, что, при всех своих частных неудачах, греческая философия, взятая как целое, представляет одно из величайших усилий человеческой мысли. А если так, то и самый спор о причинах этих частных неудач и недочетов переносится на совсем другую почву.
Не мешает, однако, привести некоторые мнения, высказанные об Аристотеле в сравнительно недавнюю эпоху. Правда, нет недостатка и в хвалебных отзывах; некоторые из них даже настолько хвалебны, что должны считаться грубыми преувеличениями. Такого рода, например, суждения об Аристотеле, высказанные тридцать лет тому назад Бартелеми Сент Илером, который восторгается чуть ли не каждым словом Аристотеля. Необходимо, однако, напомнить, что в числе писателей, ставивших Аристотеля очень высоко и видевших в нем предвестника новейшей науки, встречаются и такие имена, как Гумбольдте, Кювье, Исидор Жоффруа С. Илер.
Прежнее слепое преклонение перед Аристотелем, связь его имени с схоластическою ученостью и некоторые риторические преувеличения, свойственные даже такими авторитетным писателям, как Кювье, вызвали в новейшие времена реакцию, представителями которой можно считать Уэвелля (Автор известной „Истории индуктивных наук". Некоторые из наших писателей предпочитают называть его Йоэллем; английское произношение ближе всего к транскрипции Юэлл) и Льюиса. Последнее может удивить тех, кто знаком только с „Историей Философии" Льюиса, где, например, утверждается (цитирую по перев. Вольфсона изд. 1892 г., стр. 226), что „многие из наиболее удивительных открытий современных натуралистов, как оказывается, вполне известны были Аристотелю" и где приводится мнение Форбса, что, например, по вопросу о классификации актиний и медуз мы вынуждены возвратиться к мнению Аристотеля. Но кроме „Истории Философии" Льюис написал еще специальные очерки, посвященный научной деятельности Аристотеля; этот труд Льюиса мало известен в России, тогда как в Германии Виктор Карус счел уместным перевести его с некоторыми поправками и комментариями. И действительно, если исключить работу Бона Мейера, представляющую почти собрание сырого материала, да еще две-три немецкие работы, то придется сказать, что труд Льюиса есть почти единственный в своем роде, так как здесь рассмотрена всесторонне деятельность Аристотеля именно как естествоиспытателя. Так как Льюис—сам естествоиспытатель—обладал по многим, подлежавшим обсуждению вопросами, гораздо большей компетенцией, нежели, например, многочисленные филологи и философы, так или иначе изучившие Аристотеля, то заранее следовало ожидать, что он скажет много любопытного и нового. В этой работе Льюиса, однако, выразились, с особенной резкостью, все его как сильные, так и слабые стороны. К числу последних относится желание сказать, во что бы то ни стало, нечто оригинальное и противоречащее рутине, а за тем — несколько небрежное, не всегда внимательное отношение к тексту и к мыслям изучаемого философа. При разборе взглядов Аристотеля я буду иметь несколько случаев указать на неправильные приемы Льюиса; здесь же замечу, что на этого автора не всегда можно положиться даже там, где речь идет о простом изложении или сообщении факта. Приведу пример: в одной из вводных глав, Льюис приводит различные мнения Платона. Между прочим, он уверяет, что по Платону, кишки расположены слева с тою целью, чтобы обмывать печень подобно губке. (Перев. Каруса, стр. 107). Каждый, знающий по-гречески, мог бы сказать Льюису, что у Платона речь идет не о кишках, а об селезенке. При таких условиях, я принял за правило в этом моем исследовании основываться исключительно на том, что мне удалось найти у самого Аристотеля (Я пользовался, главным образом, известным изданием Didot, иногда сличая его с изданием Берлинской Академии: последнее было необходимо уже в виду того, что немецкие писатели всегда цитируют по этому изданию. Из переводов сочинений Аристотеля немногие надежны. Старинные филологи, при всей своей добросовестности, не имели достаточной естественнонаучной подготовки для понимания Аристотеля; английский перевод Тейлора (рекомендуемый, например, Осборном) неудовлетворителен, что замечено уже Льюисом, который, однако, в свою очередь, не всегда обнаруживает правильное понимание текста, что доказал уже его немецкий переводчик Карус, кое-что исправивший).
Я вовсе не принадлежу к числу тех писателей, которые, подобно Бартелеми С. Илеру, благоговеют перед каждым словом Аристотеля и заменяют анализ его учения—восклицательными знаками. Но в то же время я полагаю, что направление, выразившееся в трудах Уэвелля (Юэлла) и Льюиса и сослужившее некоторую службу, в смысле противодействия некритическим восхвалениям, в свою очередь отжило свой век и должно уступить место более правильной исторической оценке значения Аристотеля. Прежде чем попытаться дать эту оценку, я должен, однако, сказать несколько слов о так называемых грубых ошибках Аристотеля. Некоторые из этих ошибок, действительно, настолько грубы и поразительны, что мы не встречаем ничего подобного хотя бы у Платона. Легко понять, например, почему Аристотель ошибался в своем объяснении явления радуги; здесь ошибка, какова бы она ни была, вытекала из состояния тогдашних знаний, частью же зависела от того, что Аристотель не был математиком и недостаточно ценил метод количественного измерения. Но Аристотеля упрекают, сверх того, в ошибках совсем иного рода. Оказывается, что он—этот бесспорно тонкий наблюдатель природы, так тщательно исследовавший и описавший хотя бы головоногих, был в то же время настолько невежествен и неосмотрителен, что не знал, например, числа ребер у человека, думал, что у мужчины зубов больше, чем у женщины, утверждал, что ноги четвероногих, например, лошади, состоят из костей и сухожилий, без малейшей примеси мяса. Ошибки эти грубы, —так грубы, что невольно является вопрос об искажениях текста и о позднейших вставках. В некоторых случаях просто оказывается, что текст переводится и истолковывается совершенно неправильно. Так, например, Аристотель говорит вовсе не о том, что у мужчины зубов больше, чем у женщины, а о том, что его зубы больше, т. е. крупнее, а это вовсе уже не нелепость, а в крайнем случай—обобщение, основанное лишь на приблизительной оценке и не подкреплённое точными измерениями. (Сравн. Прибавления).
Из всех перечисленных ошибок, приписываемых Аристотелю и подавших новейшим писателями повод говорить свысока о наблюдениях Аристотеля, конечно, самою поразительною оказывается утверждение, будто у человека восемь ребер. Ошибка усугубляется тем обстоятельством, что в сохранившемся тексте сказано: „хотя и говорят, что у лигурийцев только семь ребер, но это не заслуживает веры".
Но именно эта прибавка, по моему мнению, разъясняет всю загадку. Весь вопрос в том, что позднейший переписчик или переделыватель Аристотеля по недосмотру переставил слова: семь и восемь, и если восстановить текст в его правильном виде, то окажется следующее: у человека всегда бывает семь ребер, а что касается утверждения, будто у лигурийцев восемь ребер, то это пустая басня. Скажут, что такое восстановление текста не много помогает делу, потому что у человека, на самом деле, не 8 и не 7, а 12 ребер. Но дело в том, что не все ребра одинаковы, а из других текстов видно, что только первые семь ребер Аристотель признавали настоящими рёбрами. В этом он не многим уклонялся от новейших анатомов: они отличают Costae ѵегае (истинные ребра), хрящи которых достигают бокового края грудной кости — таковы первые или верхние семь пар ребер—от Costae spuriae, ложных ребер, у которых хрящ не достигает до грудины, а или, примыкает к выше лежащему хрящу (8, 9 и 10 пара), или оканчивается свободно (11 и 12 пара). Вместо грубой и совершенно непонятной ошибки, мы видим, таким образом, основательное анатомическое различение. Кто не согласится с моим объяснением, вынужден доказать одно из двух: или что Аристотель никогда не видел человеческого скелета, или же, что он не умел правильно считать до двенадцати. Первое мало вероятно; хотя вполне допустимо, что (по условиям греческой жизни) он не рассёк ни одного человеческого трупа, но в те времена, когда после народных побоищ тысячи трупов порою истлевали на полях сражения, человеческий скелет, конечно, не был редкостью, не говоря уже о том, что такие скелеты часто выкапываются из земли при разного рода сооружениях. Наконец, если даже допустить, что сам Аристотель никогда не видел человеческого скелета, то неужели никто из спутников Александра Македонского не мог ему ничего сообщить о числе ребер? Остается, стало быть, допустить, что Аристотель не умел считать дальше восьми... (Предположение, что Аристотель судил на основании скелета обезьянь, хотя и не вполне недопустимое, но, по-моему, излишнее, разобрано в „Прибавлениях" к этой главе).
Это, впрочем, единственный случай, где для разъяснения трудности приходится прибегнуть к предположению об искажении текста и сделать попытку реставрирования. Я сам полагаю, что такого рода попытки требуют крайней осторожности; однако, читатель, знакомый с теми „поправками", к которым сплошь и рядом прибегают филологи в гораздо менее значительных случаях, по всей вероятности, согласится с тем, что предлагаемая здесь поправка — простая перестановка слов, означающих восемь и семь — имеет в свою пользу некоторое правдоподобие. Другие случаи объясняются гораздо проще. Так, например, приписываемое Аристотелю утверждение, будто у четвероногой ноги лишены мяса и состоят только из костей и сухожилий, обтянутых кожей, —утверждение, над которым иронизирует Льюис, я считаю простым непониманием греческого текста, совершенно таким же, как если бы кто-либо сказал, что англичане более мускулисты, нежели итальянцы, а отсюда был бы сделан вывод, что „по мнению автора" итальянцы совершенно лишены мускулов. Утверждение Аристотеля просто сводится к тому, что у человека, по сравнению с четвероногими, мы наблюдаем значительную толщину мясистых частей ноги и в особенности ягодиц и икр: а отсюда опять далеко до нелепости, приписываемой древнему писателю. Решительным доказательством верности моего понимания Аристотеля служит его утверждение, что это замечание не только применимо вообще ко всем четвероногим, но и ко всем животными, обладающими ногами, и что птицы еще больше уклоняются в этом отношении от человека, нежели четвероногие (Подробный разбор текста читатель найдет в прибавлениях к этой главе). Если бы Аристотель, действительно, воображал, что ноги лошадей, собак и быков совсем лишены мяса, то какими образом мог бы он говорить о сравнительных степенях этого недостатка? Разве может быть еще большее отсутствие, нежели просто отсутствие? Является вопрос: прав ли Аристотель фактически? Я полагаю, что новейшие анатомы и зоологи без труда подтвердят это. Еще Бюффон сказал, что ягодицы составляют специальные признаки человеческого рода (Les fesses Aappartiennent qu'a Pespece humaine), да и каждый новейший анатом подтвердит, что сильная выпуклость мяса в этих частях особенно свойственна человеку. (У некоторых обезьян сильно развиты седалищные мозоли, но это другой вопрос). Что касается сравнительно значительного развитая у человека икроножной мышцы, оно, очевидно, связано с его прямостоячими положением и способом хождения.
Таким образом, мы благополучно разделались с наиболее грубыми из ошибок, вычитанных в сочинениях Аристотеля переводчиками, комментаторами и историками философии. После этого, можно уже вполне уверенно приступать к обнаружению таких ошибок, которые составляют естественное последствие наличности знаний той эпохи, средств, которыми располагали Аристотель и, наконец, его метода исследования.
При оценке деятельности какого бы то ни было мыслителя прежде всего необходимо принять во внимание, насколько он выше своей эпохи и насколько ниже её. Каждый согласится с тем, что по крайней мере в некоторых пунктах Аристотеле превосходил своих современников и предшественников; является, поэтому, вопрос, был ли он, в некоторых отношениях, ниже тех или других, и не представляет ли его философия каких-либо регрессивных тенденций, нимало не оправдываемых ни состоянием знаний, ни всей историей предыдущая развития греческой мысли? Это последнее мнение высказывалось не один раз; достаточно упомянуть о мнении Франциска Бэкона, в особенности при сопоставлении его отзывов об Аристотеле — с тем, что он писал о Демокрите; из новейших же писателей достаточно указать хотя бы на Ланге. Я полагаю, что в этих мнениях есть некоторая, хотя и ничтожная доля истины; но этой доли совершенно недостаточно для того, чтобы поставить Демокрита выше Аристотеля, и еще менее достаточно для того, чтобы признать философию Аристотеля не столько полезною, сколько вредною. Какое употребление было сделано позднейшими поколениями из учения Аристотеля, это вопрос совершенно особого рода и требующий, поэтому, особого рассмотрения. Обстоятельство — это так же мало говорить против Аристотеля, как нельзя поставить в вину Демокриту то ничтожное влияние, которое было оказано им на средневековых и позднейших мыслителей вплоть до Франциска Бэкона и Гассенди. Извращенное понимание идей Аристотеля ведет свое начало еще с древности: некоторые обвинения, повторяемые до сих пор, были высказаны, например, Эпикуром, а из учеников Аристотеля лишь один вполне заслуживает этого названия, а именно Феофраст.
Но вопрос о преемниках не так важен, как вопрос о предшественниках; оценить идеи и знания Аристотеля можно, лишь обладая ясным понятием о том, что мыслили и что знали до него. Было уже показано, в общих чертах, к чему сводились знания учителя Аристотеля — Платона. Хотя я старался показать, что оценка значения Платона также бывает порою слишком низкою и что в фантастических построениях Платона был, однако, заключен зародыш физико-математического объяснения природы, все это не отнимает у учения Платона его существенно априорного характера. Правда, этот априоризм сплошь и рядом не только мирится с очень грубым опытным знанием, но порою бессознательно формулирует как раз выводы обыденного мышления; однако в принципе он ставит себя гораздо выше всякого опыта, хотя бы самого систематического, и пытается решить многие вопросы путем вдохновенной интуиции и смелого полета в сверхопытную область вечных идей.
Если, поэтому, рассматривать учение Аристотеля, лишь как дальнейшее развитие сократовской и платоновской философии, то придется признать прежде всего, что Аристотель, во многих отношениях, уклонился от Платона, с тем, чтобы опять возвратиться к Сократу; но такое возвращение едва ли имеет регрессивный характер, так как, наоборот, служит устранением наиболее шатких положений Платона. Однако, приведенная точка зрения на Аристотеля, как на представителя афинской школы, была бы через чур узкой и в то же время чересчур благоприятною. Если бы в числе предшественников Аристотеля, кроме древнейших философов, пришлось назвать лишь Сократа и Платона, то биологические умозрения Аристотеля были бы настоящими чудом, беспримерным в истории мысли. Но Демокрит имеет такое же право считаться ближайшим предшественником Аристотеля, как и Платон—и сам Аристотель не мало не скрывает этого. Однако и этим вопрос не исчерпан. Аристотель опирается положительно на всю предшествующую ему греческую философию, вовсе не затем, чтобы „побить и принизить" всех прежних мыслителей (в чем его ошибочно упрекает Франциск Бэкон), а для того, чтобы ассимилировать то, что казалось ему правильным и подвергнуть критике все сомнительное, неясное и противоречащее логике или фактами. Конечно, его полемика не всегда одинаково победоносна; это не блестящие диалектические победы, вроде тех, которые одерживаете платоновский Сократ над своими противниками, но спокойный и обдуманный анализ, представляющий первую попытку критической истории мысли, порою переходящий в легкую иронию, но умеющий ценить значение таких мыслителей, каковы Демокрит и Платон, даже в случае полного несогласия с их мнениями.
Не ограничиваясь изучением философских систем, Аристотель усвоил почти все научные знания своего времени. Употребляю некоторую оговорку по той причине, что в одной области знаний, по моему мнению, Аристотель не стоял на той высоте, какую мы видим у него во всех других областях: я говорю о чисто математическом знании. Древние писатели называют некоторые математические работы Аристотеля; из них не уцелело ни одной, исключая крайне сомнительного трактата о неделимых линиях. Судя, однако, по всему, что нам известно из сочинений Аристотеля по механике и физике, величайший философ Греции был в гораздо большей мере естествоиспытателем, чем математиком. Он, по всей вероятности, уступал в математической области и Демокриту, и Платону: у него мы далеко не видим ясности представленья при обсуждении тех простых механических задач, которые нематематическому уму кажутся в высшей степени сложными и запутанными. Правда, гениальность Аристотеля все-таки обнаружилась и в механических вопросах. Достаточно сказать, что никто иной как он впервые понял, хотя и не совсем ясно, значение принципа, известного теперь под названием начала виртуальных или возможных скоростей или лучше перемещений, а также значение разложения, а стало быть и параллелограмма сил Но он не сумел формулировать эти начала с математическою ясностью, сжатостью и строгостью, а поэтому они остались почти бесплодными для его школы и частью были переоткрыты сто лет спустя Архимедом, частью впервые правильно поняты в эпоху Леонардо да Винчи, Стевина и Галилея ). При сравнении Архимеда, величайшего физика и механика древности, с Аристотелем, не следует, однако, забывать, что их разделяет не только целое столетие, но и ряд блестящих успехов математического знания, в значительной мере вышедшего из школ Пифагора и Платона. Достаточно напомнить о том, что ближайшим предшественником и учителем Архимеда был величайший из геометров Греции—Эвклид, тогда как в эпоху Платона геометрия только что обратилась к исследованию стереометрических задач. При всем том, я не только не отрицаю, а наоборот, подчеркиваю то обстоятельство, что из всех областей знания, чистая математика всего менее соответствовала склонностям и направлению ума Аристотеля, что и отозвалось на его механических, физических и астрономических работах: в области астрономии он, несомненно, сделал шаг назад по сравнению с пифагорейцами н платониками, и только преклонение перед авторитетом учителя упрочило принятую им, в высшей степени сложную теорию небесных сфер, удержавшуюся до тех пор, пока наконец её не вытеснила более совершенная, хотя также очень сложная гипотеза эпициклов.
Но где всего важнее решить вопрос о предшественниках Аристотеля, это в области естествознания в узком смысле слова. Несомненно, что предшественники были многочисленны; в ряду их можно указать много выдающихся имен; бесспорно, что Аристотель много обязан предыдущим ученым и философам и за материалы, и за отдельные мысли: тем не менее, остается справедливым, что в лице его греческое естествознание дошло до своей высочайшей точки развития. Дальше оно пошло лишь в отдельных областях знания, частью примыкая к тому же Аристотелю, но частью и независимо. Анатомические познания Галена были без сомнения значительно выше познаний Аристотеля. Феофраст пошел дальше учителя в области ботаники и во многих детальных исследованиях. Но ни у одного из позднейших греческих мыслителей мы не находим уже того всеобъемлющего знания природы, какое характеризуете Аристотеля. Как бы ни были значительны некоторые преувеличения на счет знаний Аристотеля, остроумной критике Льюиса не удалось поколебать убеждения, высказанного таким физиологом, каков Иоганн Мюллер, а именно, что Аристотель предвосхитил некоторые из наиболее поразительных открытий новейшего времени. Даже не будь этого, работы Аристотеля по естествознанию представляют самый крупный шаг, из всех сделанных в древности; чтобы убедиться в этом, необходим хотя беглый обзор того, что было сделано раньше его.
Умственное движение, нашедшее свое высшее выражение в философии Аристотеля, было подготовлено различными путями. Здесь не место рассматривать многочисленные экономические, политические и социальные факторы, приведшие к развитию научных знаний в древней Греции; но нельзя ре упомянуть, по крайней мере, о главных течениях мысли, находящихся в не сколько более тесной связи с этими факторами, нежели философские школы и теории. Достаточно напомнить о том, что, за столетие до Аристотеля, Греция имела уже такого историка и географа, каков Геродот, а затем — такого врача и естествоиспытателя, каков Гиппократ. Этих двух имён достаточно, чтобы увидеть, что Греция времен Протагора, Сократа и Платона не погрузилась целиком в вопросы теории познания и этики, но имела науку, стоявшую на сравнительно высокой ступени, какой не достигла, например, ни одна из прославленных цивилизаций древнего Востока. Наивность и легковерие Геродота, еще в древности, вошедшие в пословицу, нисколько не умаляют заслуг этого писателя; все-таки он остается одним из правдивейших и надежнейших писателей древности, и наряду с баснями, приводит множество в высшей степени важных и ценных сведений. У Геродота мы находим, между прочим, отрывочные замечания и фактические сообщения из области естествознания. Его личные наблюдения во время путешествия внушили ему не мало любопытных соображений в области физической географии. Одно из них замечательно, а именно его размышление о причинах разлития Нила. Здесь любопытно уже показание Геродота, что никто из египтян не мог дать сколько-нибудь удовлетворяющего его объяснения. Египетские жрецы, смотревшие на греков сверху вниз, как на варваров или на младенцев, оказались, однако, слишком мало любознательными. Наоборот, из греков, некоторые, по словам того же Геродота, еще раньше его пытались найти объяснение; полемика, направленная Геродотом против объяснений, которые он признает неудовлетворительными, в высшей степени любопытна, так как проникнута вполне трезвым, можно даже сказать научным отношением к рассматриваемому им вопросу. Достаточно прочесть, как Геродот опровергает мнение, что причину разливов Нила составляют северные ветры. Иногда, конечно, возражения Геродота свидетельствуют о недостаточности его знаний; так для него не ясно, что на высоких горах климат может быть суровым даже в жарком поясе. Он осмеивает, как глупые басни, не только настоящие сказки, но и утверждения, в которых есть доля истины; так, узнав кое-что о странах полярного пояса, Геродот считает сказкой, чтобы ночь могла длиться где-либо шесть месяцев; особенно смешным ему кажется это сведение по той причине, что, как он думает, пришлось бы допустить и существование людей, спящих 6 месяцев сряду. Он считает басней показания моряков, что олово и янтарь добывают с каких-то островов (Великобританию греки прозвали даже оловянным островом) и в то же время сам передает иногда, без оговорок, гораздо менее правдоподобные басни. Но это смешение наивного легковерия с излишним недоверием все же выгодно отличает его от восточных летописцев, у которых история смешивалась с мифом. В конце концов Геродот очень редко сообщает совершенно нелепые сведения, иногда с целью опровергнуть их, реже—принимая их за истину. Его описания природы, для своего времени, очень обстоятельны и точны; бесспорно, что ими часто пользовался и Аристотель. Еще Кювье заметил, что многих египетских животных Аристотель не наблюдал сам, а описания их заимствовал у Геродота. Не следует, однако, думать, что Аристотель поступал так без всякого разбора и критики: он выбирал то, что находил правдоподобным.
Другое упомянутое выше имя неразрывно связано с историей не одной медицины, но и всего естествознанья. Не следует забывать, что и сам Аристотель происходили из семьи, в которой хранились традиции врачебной науки и где имя Гиппократа, конечно, пользовалось большими уважением. Великой потерей для истории науки следует считать отсутствие точных данных о подлинных сочинениях Гиппократа: сборники, много раз издававшиеся под его именем, без сомнения, состоят из разнороднейших элементов, и авторами отдельных, вошедших составь его книг, были даже представители двух полемизировавших между собою медицинских школ того времени.
В сочинениях, посвященных истории медицины, а также в новейшем труде Гомперца по истории греческой мысли (Th. Gomperz, Griechische Denker) можно найти подробную характеристику состояния медицинских знаний в доаристотелевскую эпоху; для моей цели достаточно некоторых общих указаний. Несомненно, что трактаты, изданные под именем Гиппократа, принадлежат не только разным авторам, но и разным эпохам: и очень возможно, что некоторые из этих трактатов современны Аристотелю или даже относятся к более позднему времени. Есть, однако, и такие трактаты, которыми, по-видимому, пользовался Аристотель. В сборнике, приписываемом Гиппократу, есть сведения и более, и менее точные, нежели те, какие находим у Аристотеля; общее впечатление, однако, вовсе не такое, какое получается, например, при сравнении Аристотеля с позднейшим ученым — Галеном, без сомнения, обладавшим гораздо более совершенными анатомическими познаниями, нежели Аристотель. Здесь же, наоборот, оказывается, что Аристотель усвоил выработанное предшественниками, а кое-что прибавил от себя, хотя и не изучил анатомию человека с тою тщательностью, какую мы увидим, когда обратимся к некоторым животными.
Развитие медицины и анатомии и физиологии человека встречало в древности особые трудности, которые в наше время можно представить себе лишь с приблизительною точностью, если мысленно перенестись в какой-либо глухой медвежий угол, где ученый анатом и в наше время легко мог бы поплатиться за свои исследования и испытать последствия невежественного фанатизма. Если мы вспомним о том, какую огромную роль в жизни большинства древних народов играл культ предков, для нас станут ясными трудности, препятствовавшие появлению в древней Греции анатомических театров и коллекций. В известном труде Фюстель де Еуланжа собраны многие любопытные факты, относящаяся к разным эпохам греческой (и римской) жизни, из которых видно, как живы были верования в загробную жизнь, —притом очень близкую к здешней жизни и находящуюся с нею в тесной связи. Фукидид рассказывает например об обычае приносить усопшими дары; Эврипид указывает на более древние обычаи убиения лошадей и рабов, для погребения их вместе с усопшими; этот варварский обычай, конечно, был невозможен в просвещенную эпоху Аристотеля, но просвещение не искоренило массы суеверий, и вера в привидения, в пришельцев с того света, в скитания несчастной души, в том случай, если тело осталось без погребения —все эти верования глубоко укоренились в народной массе и не разделялись лишь десятками мыслителей. В эпоху, когда философское образование в Афинах было уже не редкостью, мы видим, что афиняне постановили казнить полководцев, выигравших морское сражение, но не позаботившихся о погребении мертвых, —в виду приближавшейся бури, которая могла потопить весь флот. Родственники непогребенных, по словам Ксенофонта, явились в суд в траурных одеждах, требуя мщения—и толпа нашла, что они правы.
Одного этого исторического свидетельства было бы достаточно, чтобы показать, чему мог подвергнуться слишком неосторожный анатом.
Является, однако, вопрос, не удавалось ли это некоторым исключительным исследователям, хотя бы украдкой? Ответить трудно, хотя и не вполне невозможно, так как существуют несомненные доказательства, что многие из анатомических познаний не только Гиппократа, жившего раньше Аристотеля, но и Галена, жившего гораздо позднее, почерпнуты из изучения не человека, а других животных, по возможности близких к человеку. Правда, Галлер написал в 1751 г. целое исследование о том „сколько человеческих тел анатомировал Гиппократ", но, странным образом, в том же сборнике, в котором поместил это исследование, высказал, в другой статье, что до эпохи Птолемея Филадельфа „дерзновеннейшие греки, побуждаемые жаждою истины, либо никогда не резали человеческих трупов, либо совершали это очень редко". В упомянутой выше статье Галлер доказывает, что Гиппократа не мог, ни в каком случае, анатомировать обезьян, так как они были редки и дороги в Греции. Это, разумеется, еще не убедительное доказательство. Далее Галлер подчеркивает то обстоятельство, что Гиппократ нигде не упоминает об обезьянах: но и Гален, много лет спустя, режет обезьян и по обезьянам и другим млекопитающим описывает человека, не упоминая, однако, об этом. Один несомненный пример заимствую из „Анатомии" Гиртля: Гален допускал, что меньшая пяточная мышца (Muse, plantaris), которая у некоторых млекопитающих переходит в пяточное сухожилье (Aponeurosis plantaris), проходит также далеко у человека, тогда как в человеческой ноге этот мускул вовсе не входит в подошву и для человека общепринятое название этого мускула (plantaris) лишено смысла.
Является вопрос: рассекал ли человеческие трупы Аристотель? Об этом много писали, но, в конце концов, приходится ограничиваться догадками, вроде той, которая высказана Шпренгелем в его истории медицины, а именно, что Аристотель занимался анатомией человека частным образом, когда находился в Халкиде—на что, однако, нет исторических доказательств. Наиболее убедительным доказательством в пользу того, что он мог рассекать человеческие трупы, служит его чисто теоретическая защита анатомии против господствующих предрассудков. В сочинении „О частях животных" мы находим следующее замечательное место: „Нельзя без большого отвращенья рассматривать части, из которых состоит человек, вроде крови, мяса, костей, жил и тому подобного. Следует, однако, их рассматривать, как архитектор рассматривает дерево, камни, известь и прочее, из чего он строит". Слова эти поразительно сходны с теми, которые можно прочесть в сочинениях многих анатомов ХѴIII века, рассуждавших, подобно Галлеру, о пользе и приятности анатомии, несмотря на то, что, по словам этого ученого, нет ничего печальнее и ужаснее зрелища трупа. Однако я вполне согласен с Льюисом, что одних этих слов Аристотеля было бы недостаточно для доказательства значения его анатомических работ, и если, действительно, Аристотель считал, например, матку женщины двойною, то это, конечно, было бы более чем достаточным противовесом его теоретической преданности анатомии.
Мое личное мнение по этому вопросу сводится к тому, что Аристотель, действительно, имел мало случаев исследовать трупы взрослых людей и что, по всей вероятности, если он и произвел несколько рассечений, то, главным образом, над трупами недоношенных младенцев, что подвергало его гораздо меньшему риску со стороны толпы, нежели анатомирование взрослых людей. В пользу такого взгляда я могу привести несколько фактов, выставляемых обыкновенно как раз в виде доказательства неточности познаний Аристотеля.
Так, например, Аристотель утверждает, что человеческие почки состоять из лопастей. На это указывали, как на очевидное доказательство того, что Аристотель никогда не видел почек человека и что он попросту перенес на человека то, что видел у быка. Возможно, однако, что его сведения основывались на рассечении человеческого зародыша, у которого почки представляют дольки. Дольки эти появляются уже на втором месяце (Kolliker, Toldt), существуют во все время утробной жизни, выделяясь все яснее, после акта рождения быстро между собою сливаются. Взгляд на рисунок, помещенный в известном руководстве Видерсгейма (Wiedersheim, Lehrb. der vergl. Anatomie, 2 Aufl. 1886, S. 765) лучше всяких описаний поясняет сходство дольчатой, т. е. состоящей из лопастей почки человеческого зародыша с почкою некоторых взрослых млекопитающих. Дольчатое строение почки человека может быть, впрочем, обнаружено и в почке взрослого, если разрежем свежую почку и взглянем на так называемые мальпигиевы пирамиды. Однако я не думаю, чтобы анатомических познаний Аристотеля было достаточно для подобного вывода.
(Я следую Келликеру, который в этом случай представляет авторитет более надежный, нежели Льюис, утверждающий, что „всякий след дольчатой формы почек исчезает" у человеческого зародыша „приблизительно на пятом месяце, а Аристотель едва ли мог исследовать более ранний зародыш". (Почему же и не мог?). Чтобы придать своему утверждению более авторитетности, я обратился к проф. Н. А. Холодковскому, и он пишет мне, что нет никакого основания сомневаться в точности утверждений Келликера, приведенных мною в тексте.)
Мне кажется, что утверждение Аристотеля относительно двойной матки у женщины служит новым подтверждением справедливости приведенного взгляда, если только допустить (что вовсе не невероятно), что он имел случай видеть матку женского человеческого зародыша в конце второго месяца утробной жизни. На этой стадии развития, матка, действительно, хотя собственно не двойная, но, однако двурогая и лишь постепенно путем слияния рогов, она превращается в вполне однополостную. Нет, поэтому, необходимости утверждать, что Аристотель описывал матку женщины по матке коровы или какого-либо другого млекопитающего.
(Менее всего можно здесь сослаться на обезьян, обладающих такою же простою маткой, какую мы видим у человека самого Аристотеля о том, что он, действительно, гораздо лучше изучили других животных, нежели человека, и что он пользовался выводами, добытыми относительно этих животных, при меняя их к человеку).
Чтобы предупредить неправильное истолкование всего, сказанного мною в пользу Аристотеля, необходимо здесь подчеркнуть, что я ни на минуту не сомневаюсь в существовании таких ошибок у Аристотеля, которые обусловливались неправильными заключениями от других млекопитающих к человеку. Во всех биологических трактатах Аристотеля всегда преобладает сравнительноанатомическая точка зрения, а она требует чрезвычайно обширных познаний и в тоже время большой осторожности в обобщениях. Как будет показано в своем месте, сравнительноанатомические познания Аристотеля были, для своего времени, чрезвычайно обширны; но само собою разумеется, что очень и очень многое из того, что теперь считается элементарным, было ему совсем неизвестно или же известно с недостаточною полнотою. Мы имеем и положительное свидетельство
Не трудно, конечно, убедиться в том, что в сочинениях Аристотеля есть и такие ошибки, которые зависят просто от недостаточного наблюдения. К числу их относится, например, утверждение, что мозг лишен крови и что задняя часть черепной полости совершенно пуста. Следует заметить, что Аристотель, вообще, далеко не обратил должного внимания на исследование мозга. Это может показаться удивительными, но объясняется чисто теоретической ошибкой. Аристотель был убежден в том, что мозг не представляет существенно важного органа, так как отвергали его участие в психической деятельности; это последнее мнение основывалось, однако, на ложно истолкованном, но важном наблюдении, состоящем в том, что вещество мозга само по себе не обладаете чувствительностью—наблюдении, по всей вероятности, сообщенном Аристотелю врачами, имевшими случай убедиться в этом на пациентах с проломленными черепом и обнаженным мозгом, причем прикосновение к мозгу, хотя бы ланцетом, не давало болезненного ощущения. Признавая мозг маловажным органом, Аристотель мало им занимался. Предыдущего, по моему мнению, более чем достаточно, чтобы показать, что даже настоящие и действительно крупные ошибки Аристотеля—не промахи невежды и даже не заблуждения мечтательного философа, строящего природу из глубины собственного духа, а ошибки естествоиспытателя, располагавшего бесконечно менее совершенными средствами, чем те, какими мы теперь располагаем, и тем не менее выказавшего, во многих случаях, не только удивительную проницательность, но и значительное уменье наблюдать и описывать наблюдаемое.
(Hist. anim. I, 13. Оравн. Не part. an. II, 10. Это относится к изучению внутренних частей; наоборот, когда дело идет о наружных частях, Аристотель говорить, что надо начать с человека, как наиболее нам известного, подобно тому, как каждый считает при помощи наиболее известной ему монеты. Hist, an. I. 6.)
Бесспорно, однако, что в биологических работах Аристотеля, наряду с наблюдением и описанием, замечается и весьма сильное стремление к сравнению и к обобщению; не менее справедливо и то, что у него постоянно проглядывает априорный элемент, зависящий от его телеологических воззрений на природу. Но для оценки этого элемента, необходимо сначала, в общих чертах, напомнить о космологических теориях Аристотеля.
Космология Аристотеля.
Космологические учения древних сплошь и рядом излагаются в совершенно искаженном виде ). Но даже у такого точного писателя, каков Уэвелль (Юэлл) нельзя найти вполне беспристрастного изложения аристотелевской космологии: причиною служат теоретические предубеждения Уэвелля, который, излагая историю „индуктивных наук", тем не менее предпочитает идеи Платона—аристотелевским индукциям.
В числе обвинений, направленных Уэвеллем против греческой философии и науки и, в частности, против метода Аристотеля, мы находим утверждение, что Аристотель очень часто довольствовался чисто словесными объяснениями. Нельзя сказать, чтобы это обвинение не имело никакого фактического основания: бесспорно, Аристотель очень часто занимается разбором значения тех или иных слов, в тех случаях, когда современный естествоиспытатель поспешил бы приступить прямо к делу. Но при суждениях о греческой науке и философии слишком часто упускают из виду одно очень важное обстоятельство: необходимость создания научной терминологии. (Примером может служить "исторический очерк в популярной и, вообще, удовлетворительной книге: „Астрономия в общепонятном изложении". С. Ньюкомба и Р. Эпгельмана; дополненная Г. Фогелем. Русск. пер. Н. Дрентельна 1894—1896. Здесь на стр. 3 совершенно неправильно изложено „учение Пифагора" и хотя потом сделана оговорка, что в эзотерических беседах Пифагор учил иначе, т. е. не признавал землю центром мира (и затем то же сказано о Филолае), но ровно ничего не упомянуто ни о „центральном огне", ни об антихтоне пифагорейцев. Не меньшие ошибки можно найти в Studien знаменитого ботаника и популяризатора Шлейдена, который уверяет, например, что Аристотель допускал 8 небесных сфер и поясняет это даже рисунком. (S. 258 u. Taf. II).
Мы так освоились с сотнями научных терминов, что лишь с большим трудом способны понять все те трудности, которые представлялись первым основателями научных методов, вследствие необходимости пользоваться теми словами и оборотами, которые доставляла им обыденная речь. До некоторой степени способны оценить эти трудности те лингвисты, которые пытались переводить популярные научные сочинения на языки малокультурных народов. Не мы, однако, станем оспаривать, что у Аристотеля, наряду с реальными объяснениями, можно, действительно, найти и чисто словесные. Самая выработка научной терминологии, хотя безусловно необходимая, скрывает в себе немалую опасность, так как легко приводит к увлеченно новому термину, которому начинают придавать какую-то магическую силу. Даже в новейшие времена такие слова, как электричество, гипнотизм, борьба за существование, подбор, выражающие весьма определенные научные понятия, нередко превращаются в своего рода заклинания, при помощи которых сразу решают самые сложные вопросы физики, психологии, биологии и социологии. Никто, однако, не решится сказать, что эти термины—только пустые слова. Точно также и аристотелевские причины — материальная, формальная, действующая и конечная—были не одними пустыми словами, хотя и приводили порою, в особенности в эпоху господства схоластики, к пустым словесным объяснениям. Уэвелль полагаете, что такие слова, как „наилучшее, естественное, совершенное" играли у Аристотеля роль всеобъясняющих принципов. Странными образом он не всегда замечает, что его критика гораздо более применима к высокоценимому им Платону, у которого телеологические принципы, действительно, подавляли собою все—даже факты, тогда как Аристотель прямо высказывался против беспочвенной телеологии и пытался основать учение о целесообразности на изучении действительности. Так, Аристотель прямо порицаете пифагорейцев за то, что основою их учения о центральном огне (по его, не совсем, впрочем, основательному мнению) является исключительно допущение, что наилучшее, т. е. центральный огонь, должно быть в наилучшем месте, т. е. в центре. Правда, у самого Аристотеля наилучшее и совершеннейшее играет очень выдающуюся роль, но, по замечанию Бона Менера, „он из этого наилучшего не выводил новых светил там, где не наблюдали их". Вообще, никак не Уэвеллю было читать нотации Аристотелю по поводу его телеологии, так как сам Уэвелль, как только переходит к изложению истории биологических наук, превращается в ярого поклонника конечных причин и целей, намеченных творческими разумом, причем идет гораздо дальше Аристотеля, видевшего в природе неразумное начало, лишь постепенно стремящееся приблизиться к сознанию и разуму. (См. например Hist. an. VIII, 1. (Eil. ВеЫ;. 588, b. 4) и психологические сочинения Аристотеля).
Итак, мы нисколько не погрешили бы против метода и смысла учения самого Аристотеля, если бы изложили его воззрения на природу, придерживаясь некоторого восходящего порядка. Не следует, однако, думать, что этот порядок следовало бы начать с космической эволюции; отношение между космическим развитием и развитием органического мира на земном шаре далеко еще не представлялось Аристотелю в том смысле, к какому мы привыкли. Физическая астрономия почти отсутствовала, геология еще не существовала, исключая некоторые отрывочные мнения, относящихся скорее к области физической географии. Не удивительно, поэтому, что устройство солнечной системы, а тем более звездных миров, почти не приводилось в связь с устройством и с населением земного шара, или эта связь устанавливалась так произвольно, как у Платона. Если мы, поэтому, начнем с космологических взглядов Аристотеля, то лишь ради удобства изложения, а также потому, что здесь придется ограничиться лишь самым необходимым.
Космологическое учение Аристотеля в наше время кажется, конечно, в высшей степени странными; как было уже замечено, в области астрономии, Аристотель во многом сделал шаг назад по сравнению с пифагорейцами. Тем не менее, никак нельзя одобрить тех новейших историков науки, которые за недостатками аристотелевской космологии совсем не усматривают её исторического значения. Резкое осуждение системы Аристотеля было уместно в эпоху Коперника и Галилея, но в наше время необходима более правильная оценка (Борьба против неограниченного авторитета Аристотеля началась гораздо раньше эпохи так наз. „возрождения". Не следует, однако, впадать в преувеличения; так, например, относительно Рожера Бэкона еще сомнительно, как надо понимать его известное изречение, что книги Аристотеля следовало бы сжечь. Действительно, слова эти не мешают ему постоянно цитировать Аристотеля и относиться к нему с большим почтением. Jourdain пытался доказать, что упомянутые слова Рожера Бэкона относятся лишь к плохим переводам трудов Аристотеля. См. Jebb, предисловие к Opus majns Рожера Бэкона и Льюис, Аристотель, глава VI. (Нем. пер. Каруса, стр. 122). Суждение Рожера Бэкона собственно высказано не в Opus Majus, но, по мнению Уэвелля, извлечено из Opus Minus. Далее прямо говорится о людях, неспособных к дельному занятию, „но корпящих и ослящих (languent et asininant) над дурными переводами").
Замечательно, однако же, что всего резче писали против Аристотеля не ученые, а философы, из которых многие, как например Франциск Бэкон, в астрономии и в физике ушли немногим вперед по сравнению с Аристотелем, а в биологических науках стояли далеко ниже его, даже если на время забыть о различии эпох. О космологических идеях Аристотеля Франциск Бэкон отзывался гораздо резче, нежели Коперник или Галилей. Бэкон писал, например, „Aristotelis temeritas et cavillatio nobis coelum peperit phan tasticum". (Дерзость и изворотливость Аристотеля породили нам фантастическое небо). Более умерены, но все-таки не всегда справедливы, отзывы новейших писателей; впрочем, следует признать, что математические соображения Аристотеля были его слабой стороною, а в некоторых случаях они, судя по его собственным словам (См. Metapbys. XI, 8, о теории сфер. Аналогичное замечание о величине земного шара. De Coelo II, 14), были им прямо заимствованы у Эвдокса и других математиков. Но когда мы читаем у Льюиса, а порою и у Уэвелля, что физические объяснения Аристотеля имеют чисто словесный характер, то против этого можно выставить довольно веские возражения. Прежде всего, названные писатели не всегда имеют в виду то обстоятельство, что в некоторых случаях Аристотелю поневоле приходилось начинать с чисто логических определений и доказательств. Не следует забывать, что не слишком далеко было то время, когда элейцы и некоторые из так наз. софистов отвергали всякую возможность физических умозрений. Современному читателю, действительно, может показаться странным и даже нелепым, что Аристотель приводить, например, доводы, имеющие целью доказать возможность и действительное существование движения; но он был вынужден к этому парадоксами Зенона элейского и его последователей.
Бесспорно, у Аристотеля мы найдем много произвольного, много такого, что напоминает априорные построения Платона, но на ряду с этим мы постоянно видим перед собою не только основателя научной логики, но и естествоиспытателя. По несчастью, эта сторона учения Аристотеля еще и до сих пор не подверглась подробному исследованию, или же ее комментировали авторы, мало склонные к физическим наукам. Так, например, едва ли удовлетворят современного читателя те разъяснения физических н астрономических соображений Аристотеля, которые можно найти у одного из лучших переводчиков — Прантля. „Онтологические мотивы", усматриваемые Прантлем в учении Аристотеля о стихиях, способны скорее сбить с толку, чем разъяснить что-либо.
(Вполне основательны жалобы Юрген Бона Мейера, который пишет о новейших комментаторах Аристотеля: „Моя любознательность часто не удовлетворялась, так как философы заявляли, что желают рассматривать вопросы, лишь пока они не касаются астрономии (см. у Риттера, Целлера, Швеглера и Крише), а астрономы, в свою очередь, рассматривали вопросы, стараясь не касаться философии (см. у Шаубаха). Отсюда и произошло, что взгляды Аристотеля никем не были изложены в той связи, в какой их, вероятно, мыслил сам Аристотель". Meyer Arist. Thierkunde, 386—387 (Berl. 1855).
Трактат Аристотеля „0 Небе", хотя далеко не может быть поставлен на одном уровне с его биологическими работами, представляет первую (Не следует забывать, что сочинения Демократа утеряны. Но его механика атомов, во всяком случае, совсем другого рода, потому уже, что Демокрита мало интересовал вопрос о причинах движения) известную в истории науки попытку по строения космологической системы, исходящей из самых общих предложений о свойствах движения; это стало быть своего рода „небесная механика", хотя, конечно, крайне несовершенная, чего и следовало ожидать, принимая во внимание, что и „земная механика" еще не существовала как наука, и самому Аристотелю представлялась, главным образом, в виде целого ряда неразрешенных проблем. Конечно, следует согласиться с Льюисом, что нет ничего нелепее сопоставления аристотелевского учения о небе с „Началами" Ньютона; но сопоставление с Тимеем, несмотря на то, что Платон, как математик, стоял выше своего ученика, едва ли окажется в пользу Платона. Если у Аристотеля не так ясно подчеркнута идея о всеобщем законе, управляющем вселенною и ждущем лишь точной математической формулировки, если Аристотель не говорит о боге, созидающем геометрические отношения мира, то, конечно, потому, что он ищет не столько единого всеобъемлющего закона, сколько многих законов и причин наблюдаемых явлений. Неудача его поисков зависит от отсутствия научных методов, созданных многими веками позднее; это неудача лишь по отношению к далекому будущему, но значительный успех по сравнению с недалеким прошлым.
В учении Аристотеля о движении большею частью видят исключительно метафизические стороны. Отвергать их, конечно, невозможно; но они далеко не исчерпывают всего содержания учения. У Аристотеля большую роль играют понятия о совершенном и несовершенном, естественном и насильственном; здесь много метафизики и антропоморфизма, но есть и вывод из опыта, есть и зачатки математической теории. Разве наше современное учение об инерции не различает два рода движений, один—представляющей нечто вроде „естественного состояния" всякой материальной точки—именно прямолинейное равномерное движение, в частном случае приводящееся к состоянию покоя; другой—все прочие движения, обусловливаемые действиями сил и поэтому, так сказать, „насильственный". Правда, Аристотель еще не знал того, что было известно Галилею; для него равномерное круговое движение играло роль наиболее совершенного естественного движения: однако не всюду, а лишь в далекой области эфира, наполняющего междузвездные пространства, тогда как в подлунной области он вполне допускал „естественность" прямолинейных движений. Но и современная наука не распространяет начало инерции абсолютно на все, доступное наблюдению и опыту: так, вопрос об инерции гипотетического эфира современной физики очень часто решается в отрицательном смысле, и, во всяком случае, механика эфира еще не отожествлена с механикой весомых масс. Таким образом, прежде чем ставить Аристотелю упрек за его, будто бы чисто метафизические умозрения, не мешает, с одной стороны, провести параллель между его гипотезами и умозрениями современной науки (вооруженной далеко совершеннейшими средствами эксперимента и математического анализа), а с другой стороны—присмотреться к тем данным наблюдения и опыта, из которых Аристотель черпал свои выводы и теории. Видимое движение небесного свода с его неподвижными звездами и сложные движения планет требовали объяснения; мысль, что круговое движение неподвижных звезд (вокруг оси мира) представляет наиболее совершенный род движения, легко могла представиться уму; но раз было допущено, что между звёздные пространства заполнены никоторым эфирным веществом, —должна была представиться мысль, что равномерное круговое движение свойственно именно этому эфиру. С другой стороны, наблюдения над падением тяжелых тел на землю, над погружением твердых тел в жидкостях, над восходящим движением огня, указывали Аристотелю на значение прямолинейных движений в нашем подлунном мире и требовали новых допущений и объяснений, приводивших к резкому разграничению двух миров — подлунного н надлунного. Для нас, еще в детстве слышавших рассказ о ньютоновом яблоке и о связи падения этого яблока с теорией движения не только луны, но и планет, —и звёзд, только кажущихся неподвижными, —учение Аристотеля, конечно, представляется очень шатким и плохо обоснованным, но такая субъективная оценка не имеет ничего общего с историческим исследованием.
В то время, как у прежних философов, исключая Демокрита, понятие о природе имеет или чисто мифологический характер, или же, по крайней мере, носит явные следы антропоморфизма, Аристотель, подобно основателю атомизма, готов признать в природе прежде всего чисто механическое начало. Но в то время, как Демокрит довольствовался описанием движения атомов, Аристотель искал причин и принципов; с его точки зрения, природа и есть начало движения.
Помимо чисто физических соображений, приведших его к коренному различению между круговым и прямолинейными движением, Аристотель руководствовался рассуждениями, представляющими пример зачаточной кинематики, т. е. чистого или геометрического учения о движении. Рассматривая разные виды движения, он усматривает лишь два рода простых движения прямолинейное и круговое, считая все прочие движения сложными или „смешанными'' из круговых и прямолинейных. Однако, эта геометрическая точка зрения у него постоянно перемешивается с физическою и космологическою, что и не удивительно, при малой склонности Аристотеля к чисто математическим соображениям. Так, едва выяснив существование двух родов простых движений, Аристотель спешит ввести понятие середины или центра, от которого исходит или к которому направляется прямолинейное движение, причем имеет ввиду центр земли, являющийся, в его системе, также центром мира.
Таким образом, мы видим, что, с точки зрения Аристотеля, ближайшая к нам часть мира, составленная из четырех стихий, указанных еще Эмпедоклом, представляет своеобразную систему, в которой господствуют особого рода механические законы; законы эти сводятся к тому, что каждая стихия, в каждой своей части, обладает свойственным ей стремлением двигаться, по прямой линии к центру вселенной (или что-то же, к центру земли) или, наоборот, от центра. Это стремление к центростремительному или центробежному движению Аристотель рассматривает, как некоторое внутреннее свойство или силу, присущую каждой частице данной стихий. Совершенно ошибочно, поэтому, мнение, будто Аристотель в данном случае исходил из одних „чисто словесных" противоположений лёгкого и тяжёлого. Конечно, он ошибался, рассматривая легкость, как некоторое положительное свойство тела и приписывая, например, поднятие воздуха над водою „стремлению" воздуха вверх. Но вовсе не трудно представить себе механическую систему, которая могла бы удовлетворить подобному объяснению, а что сам Аристотель имел довольно ясные представления о такой системе, доказывается его рассуждением о свойствах воздуха. Так как воздух, по Аристотелю, легче воды и тяжелее огня, то является вопрос: не представляете ли воздух простую смесь частиц, образующих воду, с частицами огня. На этот вопрос Аристотель отвечает следующим образом: по его словам, воздух не может составлять указанной смеси, потому что в этом случае можно было бы взять такое большое количество, т. е. такую массу воздуха, которая оказалась бы легче небольшого количества огня, а воздух не может быть легче огня. Эти соображения Аристотеля, конечно, показывают, что он придавал преувеличенное значение внутренними силами и не обращали достаточного внимания на взаимодействия между телами.
(Это рассуждение Аристотеля мы можем пояснить такою схемой. Начертим прямую АВ, длиною, например, в 3 сантиметра и направленную снизу-вверх, а затем из А проведем сверху вниз, т. е. в прямо противоположном направлении, прямую АС, длиною, например, в 1 сантиметр; пусть прямая в 3 сантиметра, направленная вверх, изображаете импульс частицы или единицы объёма огня, прямая в 1 сант, направленная вниз, изображает импульс 1 частицы воды. Если допустим, что 1 частица воздуха заключаете 1 частицу огня и 2 воды, то центробежный импульс 1 частицы воздуха можно изобразить прямою АВ, а центростремительный— удвоенною прямою АС, в результате же получится центробежный импульс, который можно изобразить какою-либо направленною вверх прямою А'В' = АВ — 2АС, длиною в 1 сантиметр. Если возьмем, поэтому, например, 6 частиц воздуха, то центробежный импульс этой массы изобразится прямою в 6 сантиметров, т. е. будете значительнее, чем для небольшого количества, например, для одной частицы огня, и выйдет, что большое количество воздуха легче, чем малое количество огня, тогда как в равных количествах воздух тяжелее огня, т. е. обладает меньшим стремлением удалиться от центра вселенной. Такое следствие, по Аристотелю, не верно, потому что противоречит фактам, так как в его вселенной область воздуха фактически ближе к центру, чем область огня. Поэтому остается допустить, что воздух, как и огонь, и вода, есть элементе, т. е. несмешанное из других элементов вещество, и что каждая стихия стремится занять свойственное ей место. Позднее будет показано, что воздуху и воде приписывалось соединение двух свойств—тяжести и легкости.)
Ему не удалось, поэтому, открыть принцип, подобный тому, который был впоследствии найден Архимедом и который так просто объясняете законы плавания твердых тел в жидкостях: он довольствовался допущением внутренних импульсов, двигающих элементарные тела к центру или от центра с известною силою, зависящею от природы взятого элемента. Эту систему, конечно, следует признать ошибочною, но она основана никак не на одних словесных противоположностях между лёгким и тяжелым. Система эта, хотя еще не содержала и намека на закон Архимеда, все же позволяла объяснить, почему, например, ничтожная по весу небольшая масса земли тонет в огромной массе воды; то, что Аристотель называет сравнительною тяжестью или легкостью, есть в сущности та или иная плотность вещества, присущая любому, хотя бы малейшему объёму и не зависящая от количества взятого вещества. (Уэвелль косвенным образом допускает, что приведенное учение Аристотеля содержит не одни словесные объяснения. Он говорить (Т. I, стр. 55 русск. пер.): „Стремления тел вниз и вверх, их тяжесть, падение, их плавание или погружение были объясняемы таким же способом, который, при всей ошибочности, удовлетворял большую часть философов до времен Галилея и Стевина, хотя тем временем Архимед дал уже верную теорию о плавающих телах". Но для суждения об отношении Аристотеля к Архимеду, следовало добавить, что последний жил столетием позднее).
Антропоцентрическая точка зрения аристотелевской космологии сказывается не столько в противоположении центробежного и центростремительного движения стихий, сколько в самом выводе существования стихий; при этом Аристотель исходит не из фактов внешнего мира, а из наших элементарных ощущений. Указав на различные противоположные качества, он, однако, вполне сознательно и методически исключает такие контрасты, как например черное и белое, сладкое и горькое, и оставляет только те, которые имеют отношение к чувству осязания, да и из них отбрасывает многие. Установив, задолго до Локка, различие между первичными и вторичными свойствами тел, Аристотель находит четыре основных качества (горячий—холодный, влажный—сухой) и так как из 4 вещей можно составить 6 комбинаций по 2, рассматривает эти комбинации.
Из них приходится отбросить комбинации противоположностей: остаются 4 комбинации (горячий и сухой и т. д.), которые приводят к 4 элементам Эмпедокла (например, земля холодна и суха; воздух, отожествляемый с паром, горяч и влажен).
Было уже замечено, что мысль о совершенстве кругового движения, по сравнению с прямолинейным движением четырех стихий, навязывалась уму явлением суточного вращения небесного свода. Понятно, поэтому, желание Аристотеля исследовать свойства этого движения; здесь снова мы видим, что он не долго остается в пределах математических абстракций и слишком спешит перейти к физической стороне вопроса, недостатки же своего математического метода иногда заполняет рискованными логическими соображениями. Соединение логики с физикой не может еще заменить математических дедукций. Примером математических рассуждений Аристотеля могут служить соображения, с помощью которых он пытается доказать, что, в то время как всякому прямолинейному движению можно противопоставить другое, прямо противоположное, для кругового движения такой противоположности допустить нельзя. По-видимому, не представляется особой трудности допустить, что круговому движению, происходящему, например, в направлении суточного движения небесного свода, можно противоположить круговое движение, происходящее в попятном направлении. Это порою допускает и сам Аристотель. Здесь он, однако, устраняет этот вопрос и вместо того показывает, что движение, совершающееся, например, слева направо по верхней полуокружности, не противоположно движению, происходящему справа налево по нижней полуокружности. Из подобных рассуждений ему удается вывести существование некоторого начала, отличающегося от окружающих нас стихий не только своим круговым движением, но и отсутствием противоположностей.
В тесной связи с этим исследованием кругового движения, находится и учение Аристотеля о конечных размерах вселенной. Учению этому напрасно пытались порою приписать гносеологическое значение. Оно не имеет ничего общего с знаменитыми антиномиями Канта, в числе которых фигурирует и вопрос о конечности или бесконечности мира. Учение Аристотеля по этому вопросу имеет, наоборот, существенно физический характер, дополняемый скудными математическими соображениями.
(Не мешает, однако, заметить, что Аристотель ввел обозначение неопределенных величин буквами и даже в биологии часто пользовался математическими обозначениями).
Рассуждая о конечных размерах вселенной, Аристотель постоянно имеет в виду не вопрос о конечности или бесконечности пространства, но размеры физического мира или того, что он называет небом. При ближайшем анализе, конечно, оказывается, что несмотря на свою способность к крайне абстрактному мышлению, Аристотель не успел в достаточной мере отделаться от популярной в его время теории, по которой небесный свод представляет нечто вроде вещественной оболочки вселенной.
(Шлейден, однако, ошибается, когда утверждает в своих популярных очерках, что Аристотель учил о хрустальных сферах).
Не следует, однако, забывать, что до изобретения телескопа, нелегко было представить себе возможность, открытая бесчисленных звезд, невидимых простому глазу; а лишь это открытие настолько расширило кругозор астрономов, что окончательно упразднило теорию вещественной сферы, вмещающей в себе вселенную. Из всех мыслителей, предшествовавших Аристотелю, у одного лишь Демокрита можно найти смутные догадки относительно возможности такого расширения нашего опыта. Оставаясь в пределах известного ему, наблюдаемого мира, Аристотель довольно естественным путем пришел к мысли, что размеры этого мира не могут быть беспредельными. Рассуждения его по этому вопросу имеют, по-видимому, математический характер, но при всем их остроумии легко видеть, что логическая и физическая точка зрения слишком преобладает над математикой. По мнению Аристотеля, против беспредельности вселенной свидетельствует уже факт наблюдаемого нами суточного вращения небесного свода. Аристотель рассуждает следующим образом: если бы мировое тело было бесконечно великим, то и каждая прямая, проведенная от центра—мы бы сказали, от места наблюдателя — до отдаленных областей мира должны были бы продолжиться до бесконечности. Но если так, то и расстояние между бесконечно удаленными точками на этих прямых было бы бесконечно велико, а поэтому одна из этих точек не могла бы через конечный промежуток времени занять место, где находилась другая точка, а поэтому никакое вращение здесь невозможно; тогда как на самом деле мы наблюдаем это вращение.
Доказательство это, на первый взгляд, кажется удовлетворительным, по крайней мере в том смысле, что вращение бесконечно большой сферы было бы недоступно нашему наблюдению; однако, оно основано на смешении понятий линейной и угловой скорости. Если бы какая-либо точка была удалена от нас на бесконечное расстояние и находилась на некоторой сферической поверхности, на которой находится и какая-либо другая точка, то при всяком конечном угловом расстоянии между обеими точками, кратчайшее линейное расстояние между ними, измеряемое на сфере дугою большого круга, было бы, действительно бесконечно большим. Если допустить, что обе точки находятся на одном и том же малом круге, перпендикулярном к оси вращения, то легко видеть, что при вращении сферы одна точка пришла бы на место другой, пройдя бесконечно большое расстояние (так как на сфере кратчайшее расстояние дается дугою большого круга) и если вращение должно произойти в конечный период времени, то линейная скорость точки, изображающей, например, звезду, должна быть бесконечно большою. Но из этого вовсе не следует, чтобы самое вращение должно было ускользать от нашего наблюдения: угловая скорость вращения — а только она играет роль для наших зрительных восприятий—могла бы быть и очень незначительною, например, как раз такою, какая соответствует видимому суточному вращению небесного свода или, точнее, проектирующихся на этом „своде" светил.
Аристотель приводит еще и другие доказательства конечности мира и заканчивает тем, с чего мог начать, а именно утверждением, что всякая замкнутая фигура необходимо объемлет конечную часть пространства; поэтому и сфера, и круг всегда имеют конечные размеры, а стало быть о вращательном движении бесконечно большого тела не может быть и речи.
Все эти рассуждения Аристотеля, однако, крайне любопытны уже потому, что понятие о бесконечных величинах, в высшей степени важное для математики, было подвергнуто им весьма подробному, хотя и не всегда удовлетворительному анализу, и оправдать свое учение о конечности „неба" он пытался не абстрактно логическими, а геометрическими и— выражаясь терминами новейшей науки—кинематическими соображениями.
Система мира, принятая Аристотелем, имеет строго геоцентрический характер, теснейшим образом связанный не только с астрономической, но и с физической частью его учения. Средоточие мира или, что-то же, центр земли пребываете в абсолютном покое. Аристотель отлично знал, что пифагорейцы предложили другую систему; он не принял её не по недостаточному знакомству с нею (что, по-видимому, следует сказать о Демокрите, державшемся еще учения о дисковидной фигуре земли), но по той причине, что считал ее плохо обоснованною. Объяснение состояния покоя, в котором, по его мнению, пребывает земной шар, не представлялось ему особенно трудным, хотя он решительно отвергает предположения, придуманные предшествующими философами. В своем месте было указано, что Анаксимен и Анаксагор—можно прибавить и Демокрит—объясняли равновесие земли тем, что, имея, по их мнению, очень плоскую форму, земля удерживается сопротивлением находящегося под нею, сгущенного её давлением, воздуха; по мнению Аристотеля, это объяснение является излишним, так, как и шарообразная земля могла бы испытать хотя не такое, все же достаточное сопротивление и своим давлением могла бы сгустить воздух. Что касается еще более наивного объяснения, свойственного самым древним философам, будто земля плаваете на воде, то Аристотель на это возражает, что, во-первых, земля тяжелее воды, во-вторых, при таком объяснении надо еще показать, на чем же держится вода, а если найдем опору, то на чем держится эта опора и т. д. до бесконечности. Более остроумным, но все же ошибочным он считает мнение Анаксимандра, что земля, которую этот философ признавал цилиндрическою, удерживается в равновесии по причине „подобия", т. е., по-видимому, по причине равенства расстояний от пределов атмосферы, а быть может от границ видимого мира. Аристотель считает такое объяснение чисто формальным и сравнивает его с софизмом о волосе: если тянуть с большою силою волос совершенно одинаковым образом в обе стороны, то волос будто бы не разорвется. В таком объяснении, если нечто подобное применялось Анаксимандром к равновесию земли, нельзя, однако, не видеть, хотя и неправильно приложенного, учения о равновесии взаимно противоположных и равных по величине сил, тогда как сам Аристотель старается обойти затруднение таким образом, что признает вопрос о покое менее трудным, чем вопрос о движении. Нелепо, говорит он, спрашивать, почему земля покоится в центре мира, и в то же время не задаваться вопросом, почему огонь стремится к периферическим областям вселенной. По мнению Аристотеля, следует либо объяснить оба эти явления, либо признать, что оба не требуют объяснения, так как должна же земля по своей природе занимать какое-либо место. Эта мысль, что место, занимаемое каждою стихией во вселенной, есть внутреннее свойство данной стихии, составляете главное основание Аристотелевой механики, физики и астрономии, и основана она не на словесном противопоставлении естественного и насильственного, а на ложно истолкованном наблюдении явления падения и подъёма разных тел. Это—система, в эпоху схоластики значительно стеснявшая развитие науки, но она так же ложна, как и многие другие научные гипотезы, вроде учения о флогистоне или теории истечения света. Ошибка Аристотеля зависела не столько от пристрастия к априорным решениям (хотя иногда такие решения у него и встречаются), столько от недостаточного, в его эпоху, накопления фактов; в его время, наоборот, учение пифагорейцев о движении земли было чересчур априорным и мало доказательным, и основания, по которыми Аристотель отверг это учение, не так уже слабо, как можно было бы думать. Он указывал, например, на то, что допущение вращения земли противоречит факту существования неподвижных звезд; это возражение не развито им с тою ясностью, какую оно могло бы получить, если бы было сделано мыслителем, более склонными к математике; во всяком случай, оно в высшей степени замечательно так как движение земли (именно земной оси) действительно определяет изменение общего вида звёздного неба. Но величайший астроном древности, Гиппарх, открывший предварение равноденствий, родился двумя веками позднее Аристотеля, и для его открытий понадобилось накопление целого ряда точных наблюдений и измерений, которые только что начались в эпоху Платона и Аристотеля. Так как Аристотель говорить о вращении всех вообще тел, то возможно, что основою для его, правда довольно смутных догадок о последствиях вращательного движения земли были выведены из каких-либо наблюдений над вращением тел, подобных волчку, а не из одних астрономических соображений, которые могли состоять лишь в грубом сопоставлены видимого движения небесной сферы с неправильными движениями планет и с движением солнца по эклиптике. Конечно, неясность представления у Аристотеля еще весьма значительна, но все же важно было указать на возможность изменения общего вида неба под влиянием некоторого сложного вращательного движения земли — и указанная цитата заслуживает места в истории астрономии.
Отвергнув пифагорейское учение о вращении земли вокруг некоторого центрального огня и, вообще, признавая землю неподвижною, Аристотель совсем иначе отнесся к другому утверждению пифагорейской школы, а именно к определению шарообразной фигуры земли. Он не только принял это учение, но отнесся критически ко всем прежним, менее совершенным географическим теориям и дал довольно удовлетворительный ответ на некоторые возражения. Сверх того, Аристотель первый — насколько можно судить по дошедшему до наших времен материалу—дал вполне систематические доказательства шарообразности фигуры земли, и эти доказательства, в общих чертах, те же, какие и теперь приводятся в элементарных учебниках космографии. Можно, поэтому, сказать, что Аристотель впервые научно популяризировал учение о фигуре земли, которое у пифагорейцев и у Платона еще не освободилось от туманных определений, вроде того, что шар есть совершеннейшая из фигур.
Приведя мнения старинных философов, Аристотель указывает на то, что в его время многие не верили в шарообразность земли, исходя, например, из того соображения, что во время захода или восхода солнца и луны линия пересечения диска светила с видимыми краем земли или с плоскостью горизонта имеет вид прямой, а не кривой, что должно было бы быть, по мнению возражателей, если бы земля имела вид шара. На это Аристотель возражает, что значительность расстояния солнца и луны от земли и малость видимых дисков не позволяет отличить кривую линию от прямой. Возражения против шаровидной фигуры земли, по мнению Аристотеля, обусловлены такими скептицизмом, который переходит должные пределы. „Хотя, говорит он, в философии приходится подвергать сомнению все, но все же никто не должен приводить таких решений, которые еще более нелепы, чем самое сомнение": к числу таких решений он причисляет, например, утверждение, что земля имеет бесконечное протяжение вниз, над чем смеялся еще Эмпедокл. Что касается прямых доказательств шарообразной фигуры земли, Аристотель считает важнейшими из них—явление лунного затмения, позволяющее наблюдать форму земной тени, а также изменение вида неба или перемещение небесного полюса при перемещении наблюдателя с севера на юг, например, из Греции в Египет.
Доказательства, представленные Аристотелем в пользу шарообразности земли, особенно любопытны в том отношении, что здесь он, как и во многих других случаях, одинаково пользуется и дедукцией, и индуктивным методом. Он начинает с геометрических и физических соображений о направлении отвеса и о всюду одинаковом стремлении к падению, затем переходит, по его собственным словам, к показаниям чувств, утверждая, что кривая форма разделительной линии света и тени, наблюдаемая при лунных затмениях, служит убедительным доказательством шарообразности земли, так как известно, что луна затмевается земною тенью. Затем он указывает на вид звездного неба в разных странах и приходит к выводу, что земля не только шар, но притом шар довольно ограниченных размеров. Из слов самого Аристотеля очевидно, однако, что он заимствовал здесь многое у математиков, которые, по его словам, определяют окружность земного шара приблизительно в 400000 стадий—величина, превышающая, впрочем, ту, которая определена новейшими, более точными измерениями.
(Известно, что земной меридиан весьма приблизительно равен 40 миллионам метров и от этой величины немногим отличается величина земного экватора и, вообще, всякой кривой, которую можно считать диаметральным сечением земного сфероида. Длину стадии определяют в 400 локтей или 185 метров; будь стадия равною 100 метрам, определение Аристотеля совпало бы с новейшими данными: оно оказывается стало быть на 85°/0 выше истинного, если только археологи не слишком ошибаются относительно величины стадии. Эратосфен, значительно позднее Аристотеля, принимал длину меридиана в 250000 стадий, что уже значительно ближе к истине, хотя не вполне известно, пользовался ли он греческими или египетскими мерами и принимал ли стадию в 400 греческих или в 300 египетских локтей).
Чрезвычайно замечательно, по отношению к гораздо более позднему времени, заявление Аристотеля, что в его время существовало предположение, по которому пространство между Геркулесовыми столбами и „страной около Индии" разделено лишь одними морем, в пользу чего он приводит и географическое распределение животных, указывая на сходство африканских слонов с индийскими, что, по его словам, как бы показывает связь обоих отдаленных пунктов. Такие намеки на будущие географические открытия важны в истории науки, если вспомнить, какую роль играло изучение древних писателей в умственном воспитаны всех выдающихся мыслителей не только ХIV, но и ХV и ХVII веков.
Всего труднее составить себе точное понятие о сферической теории Аристотеля, менее совершенной, чем позднейшая теория эпициклов, но все-таки немаловажной в истории астрономии. Трудно определить даже, что именно здесь выработано самим Аристотелем, а что взято им у математиков. Есть, однако, свидетельства,—в которых нет причины сомневаться,—показывают, что, действительно, в этом учении Аристотель многое заимствовал, но кое-что внес и от себя: я говорю о показании самого Аристотеля, что главные основания теории сфер, развитой Аристотелем, были указаны математиком Эвдоксом, который приписывал каждой планете четыре сферы: первая обращалась с неподвижными звездами, вторая производила движения вдоль эклиптики, третья имела ось перпендикулярную к эклиптике, т. е. полюсы этой оси были полюсами эклиптики (у Аристотеля сказано иначе, но есть основания видеть здесь порчу текста), четвертая производила движение, наклонное к предыдущим.
Симплиций разъясняет показания Аристотеля и сообщает, что Калипп, вместе с другом Эвдокса Полемархом, прибыли в Афины к Аристотелю и с помощью философа исправили и улучшили изобретение Эвдокса, при чем и была выработана очень сложная система, требовавшая допущения не менее 55 сфер. В дополнение к этому, можно еще сообщить, что по сведениям, хотя и не вполне достоверным, Аристотель поручил Каллисфепу собрать во время похода Александра Македонского ряд наблюдений халдейских Астрономов. Особенно невероятного в этом сведении ничего нет, и возможно, что некоторые халдейские наблюдения, действительно, остались не бесполезными для Аристотеля и его учеников, хотя в сочинениях самого Аристотеля на это нет определенных указаний; да и вообще он менее кого-либо из греческих философов черпал из источников восточной мудрости.
Рассматриваемая в целом, система мира, по воззрениям Аристотеля, представляется в следующем виде:
В середине вселенной находится неподвижный земной шар; неподвижность его обусловлена тем, что центр земного шара или, что-то же, центр вселенной есть точка, куда направлено стремленье твердых составных частей вселенной, обобщаемых под именем земли. Ближайшая к этой точке область, занимаемая твердою частью земного шара, и есть, поэтому, естественная область стихии, именуемой землей. Далее следует область воды, стихии более легкой, чем земля; в то время как земля обладает исключительно тяжестью или центростремительным моментом, воде, кроме тяжести, свойственна и известная величина легкости, т. е. кроме центростремительного момента ей присущ и некоторый центробежный момент, обнаруживающийся в том, что, как бы ни была велика масса воды, она всегда поднимается поверх земли и, наоборот, как бы ни была мала масса земли, эта масса тонет в воде, т. е. подвигается ближе к центру вселенной. Вслед за естественной областью воды находится область воздуха; в нижней своей части она содержит много паров воды, а потому более приближается к свойствам влаги; чем выше, тем суше становится воздух и, в этом смысле, тем более приближается он к природе огня. Подобно воде, воздух обладает и тяжестью, и легкостью, при чем для воздуха центробежный момент еще значительнее, чем для воды. Тяжесть воздуха, когда эта стихия находится в своей естественной области, может быть доказана взвешиванием надутого и пустого пузыря; легкость проявляется в том случае, когда посторонняя сила выводит стихию из её области в более близкую к центру вселенной. Любая масса воздуха поднимается поверх воды, вследствие того, что центробежный момент воздуха значительнее, чем воды; обратно, самая малая масса воды погружается или падает к центру вселенной, попав в воздух. Вслед за областью воздуха находится область огня, стихии, совершенно лишенной тяжести, т. е. центростремительного момента; наоборот, огню свойственно исключительно стремление удаляться от центра вселенной Сферы, управляющие движением луны, ограничивают собою подлунную область—это и есть область деятельности четырех стихий. Далее начинается область пятой, еще более тонкой стихии, впоследствии переделанной (хотя и не самим Аристотелем) в „пятую сущность" или квинтэссенцию, но у Аристотеля носящей название эфира, причем Аристотель порицает Анаксагора за то, что этот философ смешивал понятие эфира с понятием огня. Однако, не вполне ясно, наполнена ли междупланетная область чистым эфиром. Эта пятая стихия резко отличается от четырех первых; в то время, как четыре подлунные стихии выражают собой противоположности холодного и тёплого, влажного и сухого, пятая стихия лишена качественных противоположностей. То же относится и к её движению; вместо противоположных движений к центру и от центра, она обладает естественным равномерным круговым движением. Это движение и служит причиною такого же равномерного кругового движения чрезвычайно многочисленных и сложным образом расположенных сфер, числом не менее 55, при чем многие вращаются вокруг различных осей; движения сфер и служат для объяснения всех наблюдаемых движений солнца, планет, луны и неподвижных звезд. Есть, однако, данные, из которых видно, что областью чистого эфира Аристотель считал лишь сферу неподвижных звезд. Систему эту можно обвинить в чем угодно, но только не в том, что в ней роль физики выполнялась метафизикой или даже, как иногда утверждают, чисто грамматическими противоположениями. Было бы возможно осуществить даже физическую модель такой системы, в которой некоторая центральная точка притягивает известные тела, отталкивая другие, тогда как третьи, смотря по занимаемой ими области, испытывают то притяжение, то отталкивание. Существенный недостаток теории в том, что хотя она исходила из опыта, но самый опыт был слишком груб и недостаточен; так, например, законы падения тяжелых тел были поняты неверно, и пришлось ждать Галилея, для выяснения истинных соотношений. Отлагая рассмотрение этих вопросов до второй части моего труда, я здесь добавлю еще несколько слов о соотношении между космологией Аристотеля и его биологией.
(Считаю необходимым вновь напомнить, что выражения центростремительный, центробежный не встречаются у Аристотеля и употребляются здесь лишь для краткости, при чем их следует понимать согласно со смыслом учения Аристотеля, как стремление к средоточию мира или от средоточия).
Из свойств подлунных стихий становится ясным, что области, занимаемые этими стихиями, не имеют вполне определенного характера. Стремление их двигаться к центру или от центра вселенной неизбежно производит постоянное передвижение больших или малых масс, а при этом неизбежно и перемешивание. Сверх того, в подлунном мире мы не встречаем элементов в чистом виде, но лишь тела, представляющие различные сочетания элементов; и в этом отношении учение Аристотеля об элементах составляет дальнейшее развитие идей с одной стороны—Эмпедокла, с другой—Анаксагора, примыкая ближе к первому из них и немногим отличаясь от наших нынешних понятий об элементарных или неразложимых телах.
Космология Аристотеля имела бы поэтому вполне научный характер — разумеется в пределах научных знаний, доступных его времени — если бы к ней не примешался некоторый элемент, напоминающий платоновского Тимея: я говорю о тех взглядах Аристотеля, которые приравнивают вселенную к некоторому одушевленному существу. Аристотель, однако, полемизирует против платоновской мировой души и замечает даже в несколько ироническом тоне, что плачевна была бы судьба души, вынужденной вечно вращаться, подобно злополучному Иксиону. Мировой двигатель Аристотеля совсем другого рода: он сам неподвижен, нематериален, ничего не испытываете и мыслит только себя самого; кроме того, есть еще души светил— нематериальные силы, производящая круговые движения. Эту сторону учения Аристотеля следует, однако, считать лишь переводом на мифологический язык учения об эфире или, как он его иногда называет, первой стихии. Антропоморфический или, точнее, органический характер его космологии гораздо яснее выражается в других частях его учения, именно там, где проводятся очень подробные и порою очень рискованные аналогии между жизнью вселенной и органической жизнью. Так, сравнивая область чистого эфира—сферу неподвижных звезд—с планетными сферами, Аристотель замечает, что движение бесчисленных звезд достигается помощью одной только сферы, тогда как для каждой из планет требуется по нескольку сфер: это зависит от большого совершенства звездной сферы, так как чистый эфир производит полноту жизни без особого напряжения сил. Еще более подробные аналогии проводятся для подлунного мира: падение воды из облаков сравнивается с катаральной слизью, вытекающей, по мнению Аристотеля, из мозга, и дождь оказывается своего рода мировым насморком; землетрясения сравниваются с биением сердца, море представляет род выпотения, зависящего от солнечного зноя: это последнее утверждение не мешает Аристотелю насмехаться над Эмпедоклом, который утверждал почти то же самое, правда, с добавкой, что и соленость моря объясняется тем, что это пот земли, а пот всегда солон. Море сравнивается также с желудком, земные испарения с испариной животных. Земля переживает период юности и старости. В виде примера постепенного изменения земной поверхности, Аристотель указывает на Нильскую долину, где, по его мнению, произошли значительные, впоследствии забытые, изменения. Это воззрение на историю земли, как на своего рода жизнь, упорно держится, встречаясь даже в некоторых новейших сочинениях по физической астрономии и по геологии. Верна в нем лишь мысль о некотором процессе эволюции. Аристотелю не чужда мысль даже иерархического подчинения элементов. Каждый верхний элемент, т. е. более стремящийся удалиться от центра относится к нижнему, как определяющая форма к материи. С этой точки зрения, могло бы показаться, что наши земные организмы—существа очень несовершенные. Аристотель, однако, вполне допускает, что эти одушевленные существа легко могут показаться более совершенными, чем составляющие их элементы. Но это, по его словам, лишь одна видимость: организмы совершенны не сами по себе, а вследствие состава из элементов: они тем совершеннее, чем более преобладает в их составе наилучший элемент.