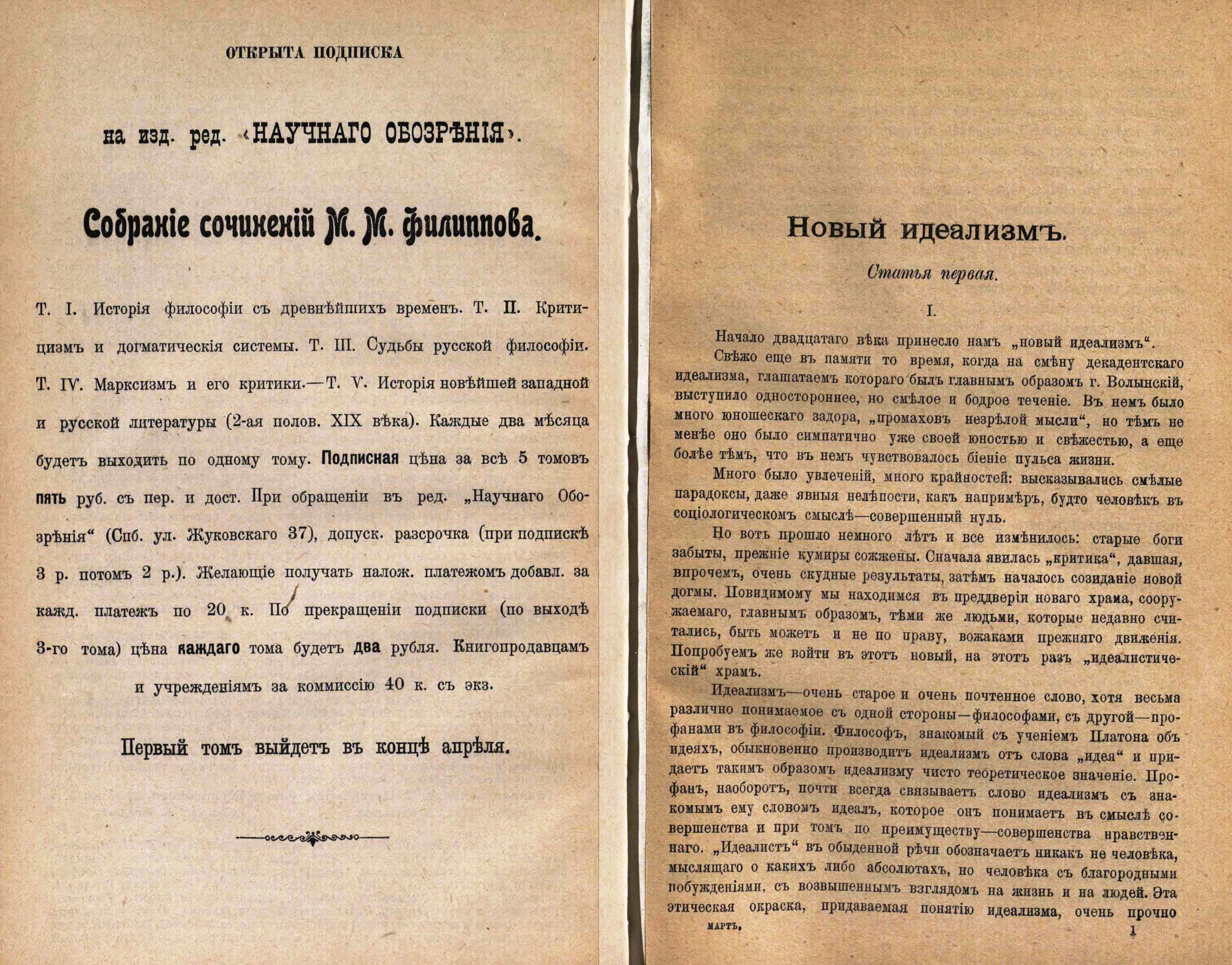
Новый идеализм.
Статья первая.
I.
Начало двадцатого века принесло нам «новый идеализм».
Свежо еще в памяти то время, когда на смену декадентского идеализма, глашатаем которого был главным образом г. Волынский, выступило одностороннее, но смелое и бодрое течение. В нем было много юношеского задора, «промахов незрелой мысли», но тем не менее оно было симпатично уже своей юностью и свежестью, а еще более тем, что в нем чувствовалось биение пульса жизни.
Много было увлечений, много крайностей: высказывались смелые парадоксы, даже явные нелепости, как например, будто человек в социологическом смысле—совершенный нуль.
Но вот прошло немного лет и все изменилось: старые боги забыты, прежние кумиры сожжены. Сначала явилась «критика», давшая, впрочем, очень скудные результаты, затем началось созидание новой догмы. По видимому мы находимся в преддверии нового храма, сооружаемого, главным образом, теми же людьми, которые недавно считались, быть может и не но праву, вожаками прежнего движения. Попробуем же войти в этот новый, на этот раз «идеалистический» храм.
Идеализм—очень старое и очень почтенное слово, хотя весьма различно понимаемое с одной стороны—философами, с другой—профанами в философии. Философ, знакомый с учением Платона об идеях, обыкновенно производит идеализм от слова «идея» и придает таким образом идеализму чисто теоретическое значение. Профан, наоборот, почти всегда связывает слово идеализм с знакомым ему словом идеал, которое он понимает в смысле совершенства и при том по преимуществу—совершенства нравственного. «Идеалист» в обыденной речи обозначает никак не человека, мыслящего о каких либо абсолютах, но человека с благородными побуждениями, с возвышенным взглядом на жизнь и на людей. Эта этическая окраска, придаваемая понятию идеализма, очень прочно привилась к умственным привычкам, и вот почему, когда какой либо философ провозглашает свое учение идеалистическим, большинство образованных, но не имеющих достаточной философской подготовки людей, невольно относятся к новому учению с почтением, хотя бы даже настоящий смысл учения оставался для них неясным. Напротив того, философские течения, противоположные идеализму, в обыденном мышлении слишком легко сочетаются с кличками, обозначающими все грубое, даже низменное, хотя философское употребление терминов «реализм» и даже «материализм» не дает ни малейшего права на подобную оценку.
Новый идеализм—я говорю здесь исключительно о русской философии, хотя мог бы указать и на аналогичные движения во Франции и в других странах—вот уже несколько лет упорно борется с «позитивизмом» и усердно призывает нас назад то к Канту, то к Фихте. Кант, как известно, был идеалистом в совершенно особом смысле слова: догматический идеализм нашел в нем даже самого сильного из своих противников. В виду этого естественно было ожидать, что некоторые из наиболее прямолинейных представителей нового идеализма, хотя и будут усердно величать Канта хвалебными эпитетами и при случае станут на него опираться, но, оставаясь настоящими догматиками, очень мало усвоят дух и метод кантовского учения и рано или поздно остынут к подлинному критицизму. Я вполне, поэтому, приветствую откровенность одного из представителей нового движения, г. С. Н. Булгакова, который очень определенно заявляет о своих антипатиях «неокантианству»: жаль только, что он не довел своей откровенности до конца и не причислил к сонму «позитивистов» и самого Канта со всей его критикой. Я лично был всегда того мнения, что, при всей необходимости серьезной философской школы и глубоко коренящейся традиции, в области мысли следует всегда идти не назад, а вперед; но так как и в старом есть непреходящие элементы, то в принципе п я сочувствую призывам «назад к Канту», хотя по совсем иным мотивам, чем наши новые идеалисты.
Когда некоторые из наших «экономических материалистов» отшатнулись от социологического учения Маркса, они тотчас же испытали «метафизическую потребность» перестроить весь мир на новых, чисто идеалистических началах. Это вполне понятно—по закону психологического контраста. Их мысль невольно обратилась к основателю новейшей философии —Канту. Отсюда их первый призыв, которому в особенности благоприятствовало их тогдашнее «критическое настроение». Пересмотр учения Маркса стал лозунгом нового критицизма, и кого же было призвать в крестные отцы, если не великого кенигсбергского философа?
Мне кажется, что именно теперь, когда неофиты идеализма стали созидать свою теософию и теодицею, призыв к Канту, действительно, является настоятельною потребностью. Конечно, мы обратимся к Канту не с тем, чтобы усвоить догматические элементы, которые есть н в учении Канта: бессмертною в этом учении остается критика всякого догматизма и в тоже время всякой интуитивной философии, пытающейся заменить методическое познание «гениальным» усмотрением и сверхъестественным наитием.
Эта последняя особенность кантовской критики—отрицание законности интуитивного философского познания—обратила на себя гораздо меньше внимания, чем критика догматических систем. Мало того, Кант был еще жив, когда явились попытки основать новые идеалистические системы, исходившие из признания умственной интуиции важнейшею способностью человеческого духа. Этим было положено начало романтической философии первой половины XIX века. Но история повторяется: в начале двадцатого столетия мы видим у нас в России, а кое-где и на Западе, возрождение романтизма, конечно в одежде новомодного покроя, но по существу сходного со старым романтизмом. Даже внешние приёмы во многом одинаковы, разве только послабее в размахе: прежнюю «гениальность» философов, подобных Фихте и Шеллингу, заменяют теперь попытки разных маленьких гениев взобраться на подмостки. Над всеми высится лишь фигура безвременно погибшего Ницше, этого философа жизни, реалиста по идеям, но романтика по настроению...
Да, история замечательно повторяется... Раскройте сочинения Канта и прочитайте статью, написанную этим философом в 1796 году, затем перенеситесь мысленно из Германии во Францию и в Россию, и от конца XVIII века к концу XIX и началу XX. Вам покажется, что Кант писал в предвидении новейших идеалистических течений, что он читал француза Олле Лапрюна и, пожалуй, даже русского Сергея Булгакова.
Разные значения имеет слово философия. Если англнчане в своем «грубом реализме» доходят до того, что называют какой- нибудь барометр «философским инструментом», то есть не мало философов, для которых философия поднимается бесконечно высоко над низменным рассудочным знанием. У этих философов есть много тайн, которых они никому не сообщают. Одни из них, по ироническому замечанию Канта, это «масоны», которые являются философами по традиции и по посвящению, а потому не хотят ничего сообщать профанам. Другие обладают тайной не по традиции, а носят ее в себе, но по несчастью они никак не могут её высказать, потому что человеческая речь не приспособлена к исповеданию таких тайн. Это философы но вдохновению, per inspirationem.
Допустим на минуту, что существует теоретическое познание сверхчувственного бытия. Во всяком случае такое познание, как пользующееся понятиями, далеко уступало бы непосредственному интуитивному познанию. В самом деле, наш рассудок должен затратить на процесс познавания известное, порою не малое количество работы. Ему предстоит работа анализа, затем синтеза своих понятий на основании определённых принципов.
Рассудочное знание должно подвигаться последовательно, методически, тогда как для философского наития все так легко, так просто... Упрощённая способность познания, если она существует должна быть названа умственной интуицией в отличие от чувственной интуиции, которая, по учению Канта, доставляет нам лишь сами по себе пустые формы познания—пространство и время.
Обладает ли кто-либо из людей способностью интеллектуальной интуиции, непосредственного познания без помощи понятий? Кант, как известно, отвечает на этот вопрос отрицательно. Я не стану здесь оспаривать существование некоторых, так сказать, внелогических способов познания: но горе тому философу, который ставит эти нелогические способы в основу своей философской системы, а, пожалуй, даже в основу своей критики чужих систем! Даже если он гений подобный Шеллингу, пренебреженная логика рано или поздно отомстит за себя и наряду с гениальными догадками мы увидим психопатический бред. Ну, а если вместо гения начнет философствовать по вдохновению самый ординарный смертный?
По замечанию Канта, люди, основывающие свою философию на способности умственной интуиции, очень склонны смотреть на рассудочное познание «сверху вниз». Удобство признаваемого ими «упрощенного употребления разума» так велико, так заманчиво! Чем же объясняется склонность многих людей философствовать по вдохновению? По мнению Канта, объяснение здесь очень просто. Корни этой склонности заложены в человеческой лености и в тщеславии. Есть люди, которые просто живут—скудно или роскошно, но во всяком случае, не трудясь. Другие не только живут, но и вынуждены работать, чтобы жить. И вот, те, которые вовсе не работают или трудятся меньше других, склонны считать себя выше, важнее, знатнее других именно в той пропорции, в какой они более свободны от труда. Теперь легко понять причину высокомерия интуитивных философов. Ведь им всякая мудрость дается даром—им «стоит только прислушиваться к своему внутреннему оракулу», а затем... изрекать афоризмы. Им чужд «геркулесовский труд самопознания «, постепенно восходящего снизу вверх: они «сразу возносятся вверх путём ничего не стоящего само-апофеоза. «
II.
Передо мною лежит сборник, составленный по преимуществу из произведений наших новых идеалистов. Особое место в этом сборнике занимают такие статьи, как напр. очерк г. Лаппо-Данилевского, посвященный критике социологии Конта: в этой статье много эрудиции, —много, правда, такого, что довольно сносно гармонирует с новейшим идеализмом, но мало характерного для нового течения. По всему видно, что г. Лаппо-Данилевский прошел совсем иную школу, чем гг. Булгаков, Бердяев и их единомышленники. Наоборот, попытка некоторых критиков выделить особо г. Булгакова, противопоставив его всем другим, обнаруживает полнейшее непонимание дела. Не знаю, умышленно ли или по простой случайности, статья г. Булгакова поставлена во главе сборника: но это во всяком случае одна из программных статей. одно из самых прямолинейных выражений нового течения.
Я был бы однако несправедлив к редактору сборника, г. Новгородцеву, если бы начал свой разбор новых течений прямо с г. Булгакова, ни словом не упомянув о. предисловии, предпосланном сборнику редактором. В этом предисловии г. Новгородцев говорит не только о возрождении философского интереса в кругах русских читателей, но и о настоящем повороте, о возрождении идеалистической философии, которая противополагается «позитивизму». Что следует подразумевать под позитивизмом? Из предисловия г. Новгородцева можно усмотреть по этому вопросу лишь следующее: новое направление ищет «абсолютных заповедей и принципов». Таких принципов не могут дать философские направления, не признающие ничего «кроме опытных начал «. За нравственной проблемой «выступают и другие, связанные с деятельной жизнью духа», но эти вопросы признаются «позитивизмом» неразрешимыми.
Из некоторых замечаний г. Новгородцева ясно, что новый идеализм не стремится быть догматическим: «новое направление, говорит он, заменяя догматическое отношение к вопросам теоретико-познавательным критицизмом, настойчиво выдвигает вопрос о тщательной проверке научных средств и категорий». Но ведь именно тщательная проверка средств и выводов догматической метафизики привела Канта как раз к установлению границ деятельности теоретического разума. Здесь раскрывается истинная подкладка новейшего критицизма. Это «критицизм на выворот. « Ограничение разума было сделано Кантом в смысле устранения призрачных решений вопросов о сверхчувственном. Как раз наоборот поступает новый идеализм. Он ищет границ не метафизики, а науки, не догматических систем, а опытного и даже всякого основанного на логическом мышлении знания, не с тем, чтобы избавить нас от напрасных усилий, но с тем, чтобы указать настоящий путь для достижения земли обетованной. Или, как говорит г, Новгородцев: «Вводя положительную науку в надлежащие границы, оно (новое направление) вместе с тем наряду с нею, признает и другие области и устраняет суеверные предрассудки, препятствующие свободно и прямо идти навстречу великим вопросам духа».
Смелые надежды, гордые обещания! Весь вопрос в том, будут ли они исполнены.
Теперь мы можем обратиться к г. Булгакову и для нас уже не покажется анахронизмом, что он начинает философский поворот с полемики против Огюста Конта. Правда, г. Булгаков с первых же строк заявляет, что философия Конта утратила уже всякий кредит: но тут же он делает замечание, стоящее в противоречии с мнимой некредитоспособностью Конта. Оказывается, что одно из основных положений учения Конта, закон трех фазисов (или, буквально, трех состояний) человеческого миропонимания, этот закон «все еще, по-видимому, является основным философским убеждением широких кругов нашего общества». Заметьте: основным философским убеждением! Выходит, что философия, уже утратившая кредит, тем не менее пользуется таким кредитом, что одно из её главных положений является основою философских убеждений «широких кругов»... Чтобы устранить несообразность в утверждениях г. Булгакова, приходится допустить, что философия Конта, пользующаяся, по его же словам, широким влиянием, утратила кредит собственно в кругу знатоков философии: такое мнение, действительно, иногда высказывалось. На торжественном заседании петербургского философского общества в память Конта некоторые ораторы выразили свое почтение к основателю позитивизма тем, что, пренебрегая всякой исторической перспективой, стали почти совсем отрицать значение Конта. Но раздавались и другие, противоположные голоса, и в числе их самым сильным оказался— да будет это известно г. Булгакову — голос Владимира Соловьева: философ этот со свойственной ему честностью и искренностью признал, что считал позитивизм очень узким до тех пор, пока не познакомился более основательно со всей философской деятельностью Конта. Быть может и г. Булгаков когда-нибудь «познакомится» и тогда изменит свое мнение.
В ожидании этого, мы вынуждены довольствоваться суровыми замечаниями г. Булгакова. «Закон трех состояний» он признает грубым заблуждением. Как известно, этот закон обоснован Контом двумя путями: исторически, путем изучения различных стадий, действительно пройденных человеческим мышлением, и чисто дедуктивно, путем анализа человеческого мышления. Ни малейшей попытки исторического опровержения взглядов Конта мы у г. Булгакова не находим: но это было бы еще не так существенно, если бы он дал основательное опровержение дедуктивного доказательства. Попытку такого опровержения мы, действительно, у него находим, но она начинается с крупного недоразумения, лишающего ее всякой ценности.
Речь идет о том, чтобы доказать, что «ни религиозная потребность духа», ни «метафизические запросы нашего разума» нисколько не уничтожаются и ничего даже не теряют от «пышно развивающейся рядом с ними положительной науки». Так как речь идет пока специально об опровержении контовского позитивизма с его законом трех фазисов, то естественно ожидать, что полемика будет исходить из тех определений метафизического и теологического мышления, которые даны самим Контом. Иначе может произойти самое печальное недоразумение: изломав все свои копья, г. Булгаков ни разу не попадет в цель. Это несчастие именно его и постигло по той причине, что, привыкнув к немецкой терминологии, г. Булгаков постоянно понимает слово метафизика в более широком смысле, чем Огюст Конт. Для г. Булгакова метафизика есть целостное миропонимание, решающее вопрос о субстанции мира, о его смысле и разумной цели, о ценности нашей жизни и наших деяний, о природе добра и зла. Но Конт, говоря о метафизическом фазисе мышления, подразумевает метафизику в совсем ином, более узком значении. По определению, вытекающему из учения Конта, метафизическое миропонимание представляет не что иное, как гипостазирование сущностей, полученных путем отвлечения и приписывание им значения реальных деятелей. Классический пример такой метафизики был дан еще Мольером в его «снотворной силе опиума», служащей объяснением причины, почему опиум усыпляет людей. Полагает ли г. Булгаков, что такая метафизика устояла перед победным шествием «положительной науки»? Я вполне понимаю такую точку зрения, которая стала бы отстаивать субстанциальность силы, энергии, даже причины в самом абстрактном смысле этого слова, причем для вящей убедительности ее можно было бы назвать Первопричиной и писать с прописной буквы: это было бы полемикой против контовского отрицания метафизики. Для меня понятна и полемика, исходящая из определения абсолютной причины (Отсылаю г. Булгакова хотя бы к «Основаниям логики и метафизики» Чичерина, в котором наши идеалисты признают одного из своих учителей), рассматриваемой в тоже время, как процесс развития и самосовершенствования: лишь бы все это не приписывалось Конту. Но навязывая Конту свое определение метафизики, г. Булгаков только понапрасну тратит время. Единственное верное замечание, относящееся к Конту, состоит в том, что г. Булгаков заставляет философию спрашивать не только «как» совершаются явления, но требует и ответа на вопросы: «что, почему и зачем». Но и это замечание сильно утрачивает в цене по той причине, что г. Булгаков применяет его без разбора к самым различным направлениям, каковы «позитивизм и разных оттенков агностицизм, в том числе и неокантианство, особенно позитивного толка». Но к какому направлению причислить напр. Спенсера, который, будучи агностиком, тем не менее самым решительным образом высказался за законность вопроса: «почему»? И где те новейшие последователи Канта, которые в деле критики понятия причинной связи ограничились бы той заменой вопроса «почему» вопросом «как», о которой говорит г. Булгаков! Если он полагается на ученых, которые, подобно Кирхгофу, провозгласили «описательный метод» даже в такой науке как механика, считавшейся до тех пор наукой о силах, как причинах движений, то г. Булгаков убедится в том, что здесь идет речь об анализе последних остатков антропоморфического понимания причинности. Допустим даже, что этот антропоморфизм неискореним: все же важно знать, где он скрывается и в чем состоят его источники, вместо того, чтобы оставаться на догматической точке зрения, разрушенной уже Юмом.
Но у г. Булгакова есть свой особый способ доказательства неискоренимости метафизики. Для этого он не обращается ни к психологическому исследованию, ни к гносеологическому анализу, но ограничивается логическим фокусом. Этот фокус до того характерен для г. Булгакова, да и для многих его единомышленников, что необходимо раз навсегда разоблачить его секрет, давно, впрочем, раскрытый Гамильтоном.
Как известно, существуют некоторые соотносительные понятия, обладающие тем свойством, что одно из них неизбежно влечет за собою другое. Такая соотносительность существует уже в области представления. Если я представляю себе выпуклую кривую линию или выпуклую поверхность и затем мысленно переношу свою точку зрения и смотрю на туже линию или поверхность с другой стороны, то вместо выпуклой кривой я представляю себе вогнутую. В понятии о кривой линии или поверхности я отвлекаюсь от всех своих случайных положений по отношению к кривой, а потому в это понятие входят выпуклость и вогнутость, как неразрывно связанные признаки. Эта свобода понятий по сравнению со связанностью чувственных восприятий, представляет огромную ценность. Но вместе с тем она скрывает и великие логические опасности. Очень легко поддаться искушению и искать в понятиях неразрывную связь между двумя членами там, где на самом деле есть лишь один член, доступный познанию. В особенности легко отыскивать такие соотносительные члены путем отрицательных определений: данному понятию можно противопоставить другое, отрицательное понятие, выразив его, однако, в такой форме, как будто оно имеет положительный характер и превратить его в соотносительное. Это и есть уловка, к которой на каждом шагу прибегают метафизики. Дано напр. понятие о познаваемом, ему противополагается понятие о непознаваемом, понятие, не подлежащее положительным определениям: но вместо отрицательного определения мы можем дать фиктивное положительное, назвать непознаваемое «вещью в себе» и для спасения её «реальности» можем придумать новый род познания, без помощи понятий, путем умственной интуиции. В этом случае окажутся справедливыми выводы г. Булгакова: «Если я ставлю вопрос о сущности вещей... и затем отрицательно отвечаю за него, то я вовсе не уничтожаю метафизику: напротив, я тем самым признаю ее, признавая законность п необходимость постановки этих вопросов, не вмещающихся в рамки положительного знания». Какая не философская, грубая, можно даже сказать жалкая уловка! Ведь с помощью такого приема можно доказать законность и необходимость всякой вообще точки зрения, начиная с напрасно осуждаемой г. Булгаковым теории, признающей существование леших и домовых. Правда, психологически каждая точка зрения законна, т. е. находит то или иное объяснение. Точно также и с формально-гносеологической точки зрения, с силою отстаиваемой Авенариусом, миропонимание дикаря имеет такое же значение, как и миропонимание Ньютона. В формальной теории познания и фетишизм находит свое место, как способ познавания, на ряду с самыми утонченными метафизическими системами. Но г. Булгакову, как и всякому догматику, совершенно чужда и непонятна эта формальная точка зрения Она, конечно, не удовлетворит запросов его духа: он считает законным лишь свой «идеализм», с его положительными догмами. Так пусть же он и строит свой храм, но не навязывает «позитивистам», неокантианцам и прочим отрицателям метафизики необходимости утверждать посредством отрицания как раз то, что они отрицают. Законность постановки вопроса о каком либо бытии или небытии доказывает лишь то, что бытие (скажем, мифологической химеры) кем-либо да признавалось, но вовсе не служит доказательством, что оно признается вопрошающим даже после рассуждения, давшего явно отрицательные результаты.
Мы приближаемся, наконец, н к пресловутой интуиции. К этому вопросу г. Булгаков подходит, правда, с некоторой осторожностью. Основать метафизику прямо на интуитивном познании он очевидно считает рискованным; в метафизике разум у него еще не совсем стоит на запятках. Но у г. Булгакова есть еще одна область, в которой помещаются «святыни сердца» и где оправдание пред разумом вовсе не обязательно. Религия, как таковая, говорит г. Булгаков, не удовлетворяется продуктами рефлексии дискурсивного мышления. Она имеет свой собственный способ непосредственно, интуитивно получать нужные для неё истины. И этот способ интуитивного знания (если только здесь применимо слово «знание», неразрывно связанное с дискурсивным мышлением и, следовательно, с доказуемостью) называется верою. «Вера есть способ знания без доказательств».
Итак, существует знание, которое, собственно говоря, не есть знание, потому что всякое знание характеризуется доказуемостью. Для веры бесспорны те положения, которые, как предмет доказательства, спорны и шатки. «Верить можно даже в то, говорит г. Булгаков, что не только недоказуемо, но и не может быт сделано вполне понятным разуму». После знаменитого изречения Тертуллиана: credo quia absurdum—утверждения, которое напрасно пытались очернить, так как в нем высказана глубокая психологическая истина— все те положения об отношении веры к знанию, которые приводятся г. Булгаковым, представляются жалким лепетом. Замечу, что на Западе по вопросу об отношении между знанием и верою существует почтенная литература, ушедшая далеко вперед по сравнению с Фихте и Якоби, на которых указывает г. Булгаков. Назову Ньюмаиа и Бальфура в Англии, Олле Лапрюна, Бергсона и Бутру во Франции. В этой литературе сделаны попытки доказать превосходство интуитивного познания, тогда как г. Булгаков ограничивается декретированием и многозначительным указанием на важность затронутого им вопроса. Вообще наши идеалисты часто прибегают к подобным намекам, ссылаясь на свои будущие труды. Подождем—увидим. С теми, кто приводит доказательства, можно спорить: но с философом веры, обладающим «своим собственным способом, непосредственно получать все нужные для него истины» никакой спор невозможен.
Полемика против г. Булгакова может быть начата только там, где он сам пытается играть роль критика. Но и в этих случаях мы постоянно видим, какое влияние оказывают дурные умственные привычки. Склонность к интуитивному усмотрению истины не покидает г. Булгакова даже там, где необходима самая осмотрительная аналитическая работа, начинающая с ясного различения понятий. Ему как бы доставляет особое удовольствие группировать вместе т. е. попросту сваливать в одну кучу самые разнородные понятия Соединив всех вообще мыслителей, отрицающих метафизику и самостоятельные права религиозной веры» в одну группу «позитивистов» г, Булгаков начинает с приписывания этой группе, взятой в целом, «механического» миросозерцания; и это последнее он затем рассматривает в одной из его разновидностей, а именно говорит о материализме ХѴШ века. Отсюда получается прямо поразительная характеристика всех «позитивистов» в указанном широком смысле слова. В мире «позитивистов» царит механическая причинность, в нем нет живого начала». (Что это за живое начало? Имеет ли оно спиритуалистический, психический или же по просто биологический характер? Это остается неизвестным—может быть это просто поэтическая метафора). Мир для «позитивистов» есть лишь «известное состояние материи». Необходимость, господствующую в этом мире, г. Булгаков, со слов барона Гольбаха, признает «фатальною» и указывает, что этот фатализм упраздняет понятия добра и зла. Наш идеалист, по-видимому, не догадывается, что можно быть противником в с я к о й догматической метафизики и именно в силу этого отвергать и материализм п фаталистическое («механическое») учение о необходимости, не менее метафизичное, чем учение об абсолютной свободе или, точнее, об абсолютном произволе ничем не мотивированной воли... Но я напрасно говорю о недогадливости г. Булгакова! Ведь несколькими строками ниже он сам пишет следующее: «Это воззрение, всю разгадку тайны бытия видящее в механической причинности и возводящее таким образом ее на степень абсолютного мирового начала (в противоположность воззрению Канта, видящего в ней простое условие опытного знания) является всецело метафизическим, хотя оно и свойственно тем философским школам, которые метафизику в принципе отрицают (агностики, позитивисты, материалисты)».
Воля ваша, г. Булгаков, это уже не логическая путаница, а просто—как бы помягче выразиться—либо отсутствие серьезного знакомства с философскими системами, либо нечто еще худшее. «Материалисты» конечно пытались объяснить «всю разгадку тайны бытия» путем механической причинности и даже, в частности, путем «пляски автоматов». Но упрекать в этом упрощенном миропонимании всех «агностиков» и «позитивистов», значит попросту не знать фактов или намеренно извращать их с полемическими целями. Возьмем напр. позитивизм Конта. Уже в силу своего аскетического отношения к вопросу: «почему?», в силу намеренного устранения принципа причинности, вместо которого он пытался выставить отношения сходства и последовательности, Конт ни в каком случае не мог быть и не был сторонником «механической причинности» и метафизического материализма. Одна уже контовская иерархии наук этому препятствовала. Принцип подчинения явлений «строго неизменным законам», т. е., по Конту, отношениям сходства и последовательности, имеет у него характер не «механической необходимости», а основного гносеологического догмата, составляющего, по Конту, умственный результат медленной и постепенной индукции, индивидуальной и коллективной.
Я не касаюсь здесь вопроса, удалось ли Копту обосновать свой принцип «непреодолимой аналогии>, навязывающейся уму и позволяющей превращать индуктивные обобщения в универсальные законы. Как известно, теория познания осталась у Конта отрывочной и неразработанной; но ясно, что приписывать Конту признание механической или фаталистической причинности в духе Гольбаха было бы чистым недоразумением. Если мы обратимся к агностикам, напр. к Спенсеру, то увидим, что рассуждения г. Булгакова лишь отчасти попадают в цель. «Механическое миропонимание, - говорит напр. г. Булгаков, - есть одна из наиболее противоречивых и неудовлетворительных метафизических систем, ибо оставляет без объяснений целый ряд фактов нашего сознания». Правда, свой закон эволюции Спенсер понимает в механическом смысле. Но пусть г. Булгаков прочитает у Спенсера то, что относится к вопросу о невозможности истолкования явлений сознания в терминах движения и пусть познакомится с этическими трактатами Спенсера; тогда он, может быть, поймет разницу между материализмом и агностицизмом. Что касается воззрения, по которому «мир и наша жизнь представляются следствием абсолютной случайности», то устранение «игры случая» вовсе не требует признания «высшего начала и смысла бытия помимо закона причинности и его преходящего господства». «Абсолютная случайность» такой же метафизический призрак, как и абсолютная необходимость н абсолютный произвол. Случайным мы называем то явление, которое не входит в познанную цепь закономерных последовательностей; но то, что сегодня представляется случайным, может впоследствии оказаться закономерным, теоретически объяснимым. Ведь считалось же когда-то «случайным» появление комет, орбиты которых теперь вычислены. Самое большее, что доказывают рассуждения г. Булгакова, это несостоятельность одной из метафизических систем—именно системы материалистического догматизма (Все, знакомые с историей философии, знают, однако, что даже упрек Аристотеля по адресу Демокрита относительно господства «случая» основан па недоразумении. Но для интуитивного философа, по видимому, не обязательно знать историю. тем более, что он не признает ее наукой). Но исповедуемые г. Булгаковым спиритуалистические догмы представляют никак не меньшие трудности. Мы познакомимся с одной из них, когда речь будет идти о различении добра и зла; но сначала необходимо пересмотреть критические замечания, направленные г. Булгаковым, против «религии прогресса».
Рассуждения г. Булгакова сводятся в этом вопросе к следующему. «Механическая» философия вынуждена так или иначе выработать свою телеологическую теорию прогресса, признавая конечное торжество разума «над неразумною причинностью». Это доказывается молчаливым или открытым признанием того факта, что на известной стадии мирового развития эта же самая неразумная причинность создает человеческий разум, который затем и начинает «устроять» мир, сообразуясь со своими собственными разумными целями. Таким образом мертвый механизм постепенно уступает место разумной целесообразности, т. е. своей полной противоположности. В этом состоит, по мнению г. Булгакова, та теория прогресса, которая составляет необходимую часть всех учений современного механического миропонимания. Если раскрытие высшей целесообразности в мире назовем теодицеей, то, говорит г. Булгаков, можно сказать, что теория прогресса является для «механического» миропонимания теодицеей, без которой «очевидно не может человек обойтись». Рядом с понятием механической эволюции, которой г. Булгаков придает название «бесцельного» и «бессмысленного» развития, создается понятие прогресса, эволюции телеологической.
Мы уже знаем, как бесцеремонно обращается г. Булгаков с философскими направлениями, а потому затрудняемся сказать, какую именно теорию прогресса он имеет здесь в виду? За отсутствием прямых указаний, выберем ту теорию прогресса, которая несомненно заслуживает название «механической», даже не в столь расплывчатом смысле, какой придается этому термину г. Булгаковым. Говорю о теории Спенсера, как она изложена в особенности в его «Основных началах».
Что же говорит нам эта теория прогресса?
Каждое явление преходяще, а потому имеет свою историю, начиная с возникновения и кончая исчезновением данного явления. Спенсер ищет общую формулу, общее выражение закономерности всех таких исторических процессов и, как полагает, находит ее. Конечным результатом, а вовсе не «целью» всякого развития является, по Спенсеру, состояние равновесия. Но так как никогда нет возможности исключить внешние влияния, то всякое равновесие рано пли поздно вновь нарушается, развитие сменяется разложением, а затем образуются новые системы, вновь подлежащие процессу развития. Всякое движение ритмично, а потому процессы развития и разложения постоянно сменяют друг друга.
Вот, действительно, последовательно проведенная «механическая точка зрения на прогресс, даже выраженная в терминах науки— механики. Эта теория очевидно не имеет ровно ничего общего с каким-либо законом абсолютного совершенствования. Она не носит в себе ничего телеологического, потому что не может даже сказать какой из двух процессов оказывается преобладающим в мире, рассматриваемом как целое,— процесс эволюции или же диссолюции? Таким образом утверждение г. Булгакова, что всякая «механическая философия» необходимо имеет свою теодицею, оказывается совершенно неприменимым к одному из типичнейших эволюционных учений— можно даже сказать, к самой выдающейся эволюционной теории XIX столетия.
Но все же, может возразить на это г. Булгаков, даже механические теории эволюции вынуждены признать, что на той или иной стадии развития «неразумная причинность создает человеческий разум», который затем «начинает устроять мир, сообразуясь со своими собственными разумными целями». Это возражение имело бы неотразимую силу, если бы не было основано на чисто фетишестическом отношении к причинности, устраненном критикой Юма и Канта. Причинность, все равно, разумная или неразумная, помимо человеческого понимания явлений, ничего не создает; она не есть какой либо демиург, способный создать что бы то ни было помимо разума, пользующегося категорией причины, как способом находить связь между явлениями. «Механическая» или «неразумная» причинность, напр., та, какую мы усматриваем в явлениях всемирного тяготения, есть известный способ, по которому наш ум связывает явления. Может существовать «механическая теория», выводящая разум со всеми его целями и всей деятельностью, как продукт эволюции таких «механических» процессов, каковы рефлексы: но все вообще теории появились только тогда, когда явился мыслящий ум. Я здесь нисколько не отстаиваю теорию происхождения разума из рефлекса, но отказываюсь видеть радикальное противоречие между какой бы то ни было строго механической теорией и тем взглядом, что разум мало по малу одерживает верх, не над «неразумною причинностью» как это неточно утверждает г. Булгаков, а над низшими импульсами человеческой природы: ведь и их та же теория будет объяснять с такой же «механической» точки зрения.
Мы уже видели, что вовсе не все новейшие философские учения испытывают «метафизическую потребность» в обосновании той телеологической теории прогресса, какая необходима для целей г. Булгакова, и что одна из самых выдающихся теорий прогресса имеет совсем иной смысл и значение. Поэтому далеко не все испытывают надобность основать «действительно научную опытную метафизику», над которой иронизирует г. Булгаков, приписывая этот химерический план некоторой воображаемой философской доктрине.
Не более удачны рассуждения г. Булгакова о социальном предвидении, к которому стремятся те или иные теории прогресса. Г-ну Булгакову хочется доказать, что жрецы придуманной им «религии прогресса» похожи на римских авгуров, а потому он заставляет их не «научно предсказывать», а прорицать. Прежде всего он утверждает, помощью ссылки на новую книгу Реккерта (с давно вышедшим первым выпуском этой книги я в 1897 г. познакомил русских читателей), что социальная наука «по самой своей познавательной природе неспособна к предсказаниям». Но ему неизвестны, по-видимому, даже классические в своем роде замечания Бокля о различии между точностью и достоверностью. Он требует от социального предсказания астрономической точности относительно пространства и времени; но прежде всего и астрономическая точность не есть точность абсолютная. Было время, когда определение дня солнечного затмения считалось торжеством науки, а теперь определяют минуты и секунды. Далее существуют предсказания, обладающие полной или почти полной достоверностью, но в тоже время допускающие лишь очень малую количественную точность, т. е. лишь грубо приблизительные относительно времени и места. Я мог бы указать г. Булгакову множество примеров из области, например, химии, где предвидение может иметь и чисто качественный характер, причем пространство и время играют здесь лишь ту роль, что являются вообще условиями всякого опытного знания. Если мы теоретически предсказываем свойство какого либо из производных бензола, то при чем тут определённый пункт пространства и времени? Если социология абстрактная наука, то и для её предсказаний не важно, идет ли речь о тон или иной эпохе и стране. Возьмем, теперь, вслед за г. Булгаковым пример из антропологии, а именно относительно смертности человека. Что человек рано или поздно умрет, это для нас не менее достоверно, чем то, что земля обращается вокруг солнца, хотя время обращения земли вычислено очень точно, а срок человеческой жизни определим лишь в весьма широких пределах; тем не менее и здесь существуют известные вероятности, подлежащие математическому вычислению: если бы их не было, то деятельность обществ страхования жизни стала бы совершенно невозможною. Но и в социальной науке, даже в её конкретных областях, существуют подобные же вероятности, доступные количественному предвидению: не будь этого, ни одно государство не могло бы, например, заранее определять смету своих расходов н доходов. При всем пренебрежительном отношении г. Булгакова к социальным. и, еще более, к историческим предсказаниям, если бы кто-либо предложил ему поставить на карту что-либо для него ценное против того предсказания, что в ближайшие два три года вывоз из Соединенных Штатов ни в каком случае не сократится до нуля, то г. Булгаков наверное не решился бы рискнуть. Для того, чтобы судить о вероятности таких предсказаний, вовсе не надо быть «импрессионистом». Точно так же можно с большой степенью вероятия делать и некоторые положительные качественные предсказания. Одним из таких положительных предсказаний был прогноз Маркса относительно общего хода экономического развития европейских капиталистических стран. Не стану разбирать по существу, был ли его прогноз удачен или неудачен; ведь если даже справедливо последнее, то и это ничего не говорит против принципа: даже астрономы иногда ошибаются по недостатку фактов или вследствие ошибочных вычислений. С научной точки зрения ничего нельзя возразить против попыток делать предсказания, основанные вовсе не на грубых аналогиях, как думает г. Булгаков. Что прогноз Маркса не имел характера, не говорю уже теодицеи, но даже универсальной историко философской конструкции, а касался весьма ограниченного круга явлений, это разумеется само собою, хотя это, по видимому, и не вполне ясно для г. Булгакова, старающегося усмотреть в самом Марксе—теолога.
III.
Итак, г. Булгаков отвергает всякий научный прогноз социальных явлений. Мы можем прибавить, что с похвальным беспристрастием он не видит в этом случае своих собственных предсказаний. Ведь он все же не только теософ п метафизик, но и экономист, написавший еще недавно книгу «Капитализм и земледелие», в которой есть не мало попыток социального предвидения. Однако и свои собственные предсказания г. Булгаков объявляет плодом импрессионизма н чисто личного убеждения. «Позитивисты», к сожалению, не довольствуются в социальной науке чисто субъективной уверенностью. Но если, действительно, наука бессильна относительно знания «будущих судеб человечества», то в этом вопросе остается только субъективная уверенность, основанная, по мнению г. Булгакова, на религиозной вере в бесконечный прогресс человечества. Что такая вера существовала и давала себя знать во многих философских учениях, напр. у Кондорсе, это конечно не подлежит спору, как и то, что самое человечество превращалось порою в предмет культа. Преклонение перед человечеством, как Великим Существом, а позднее даже как перед Великим Фетишем, составляет один из самых уязвимых пунктов контовского позитивизма. Но и в этом случае было бы грубою ошибкой считать подобный фетишизм характерным для всех тех направлений, которые г. Булгаков произвольно объединил под имеем позитивизма. Слепая вера, о которой говорит г. Булгаков, играет такую маловажную роль в большинстве новейших философских систем, что остается только подивиться многословию г. Булгакова по этому вопросу, причем обилие фраз совмещается у него с скудостью аргументации. Положительно комическое впечатление производят фразы вроде следующей: «Вечность, которую может приписать человечеству и его развитию позитивизм, является немыслимой и проблема средствами одной формальной (!?) логики неразрешимой». Разумеется, здесь нужна не одна формальная логика, а самое простое материальное (в логическом смысле этого слова) соображение, состоящее в том, что в прошедшем человечество наверное не существовало вечно и появилось никак не раньше третичного геологического периода. Что же касается б у д у щ а г о, здесь мы, правда, не можем дать никакого точного предсказания; но да будет известно г. Булгакову, что виною в том вовсе не социология, а как раз та наука, которая признается идеальной по точности своих предсказаний, именно астрономия. Если бы мы обладали не гадательными, а вполне обоснованными соображениями относительно продолжительности существования солнечной системы, или по крайней мере относительно убывания солнечного лучеиспускания, то могли бы без всяких социологических соображений определить эпоху гибели всех живых существ на земле и научно изобразить картину гибели человечества, так поразительно художественно нарисованную Тургеневым в одном из его «Стихотворений в прозе». Точных научных данных для определения дня кончины человечества, правда, нет, но некоторые вероятные соображения все же существуют и при том такие, которые не требуют никаких усилий со стороны метафизического мышления, потому что они основаны на чисто научных соображениях.
Итак, в одном г. Булгаков несомненно прав: прогресс человечества, как совокупности живых людей, не бесконечен и самое человечество не есть какой-либо Абсолют, а еще менее того—божество, заслуживающее особого культа. Кажется, отсюда было бы проще всего заключить, что и самый вопрос о бесконечном прогрессе, бесконечном совершенствовании человечества поставлен неверно. Все эмпирическое не вечно. Но г. Булгаков продолжает исследование этого вопроса, и незаметно для самого себя вместо бесконечности прогресса занимается гораздо более скромным и уместным вопросом о том, в чем выражается прогресс. Он начинает с полемики против эвдемонизма, переходит к принципу совершенствования н, наконец, к «самой возвышенной формуле прогресса, согласно которой он состоит в создании условий для свободного развития личности». Мы, таким образом, приходим к автономией воле, которая должна свободно выбирать между добром и злом.
Собственно по вопросу о трансцендентной свободе воли мы узнаем от г. Булгакова мало нового. Его автобиографические указания на то, как он изменял свои взгляды с тех пор, как полемизировал по этому вопросу с Струве, интересны лишь как знамение времени. Впрочем, как раз в разбираемом вопросе г. Булгаков остался верен себе в том смысле, что и теперь не вводит метафизической свободы в мир опыта. Но прежде он был «неокантианцем» и не пускался в дебри метафизики: теперь он решил, что права метафизики грубо попраны и вполне последовательно предлагает новую философию истории на метафизической почве, которую называет «метафизикой истории»: мы же предложим ему, по аналогии с «метахимией» и «метагеометрией», более краткий термин — «метаистория». Пример такой метаистории был давно дан Гегелем и поскольку она основывалась на действительной истории, в ней было не мало интересных и блестящих мыслей. Но так как разнообразие действительности не укладывается ни в какую метафизическую догму, то, как и следовало ожидать, у Гегеля было и много совершенно произвольных конструкций. Целью Гегеля было доказать, что исторический процесс есть раскрытие одного разумного плана. Но в грубой действительности слишком много неразумного, слишком много такого, что идет даже прямо против разума. Поэтому пришлось отличать грубую действительность от некоторой идеальной «разумной действительности». Эта последняя, будучи разумной, конечно, не может быть неразумной; а отсюда и явилась формула, которую г. Булгаков в своем высокопарном стиле именует «вещим словом Гегеля, последним выводом его гениальной системы» и т. д.
«Все, что действительно, то разумно, а что разумно, то действительно». Без всякого сомнения это так, потому что мы заранее в л о ж и л и в действительность разум. Предоставим далее слово г. Булгакову, так как боимся, что в этом месте не сумеем передать всех перлов его красноречия.
«Это есть самая великая и важная проблема не только метафизики, но и всей нравственной философии. Здесь должно быть дано «оправдание добра» (как покойный Соловьев формулировал эту же самую проблему), которое должно вместе с тем явиться оправданием зла, зла в природе, в человеке, в истории. Философия должна показать внутреннее бессилие зла, его призрачность, его—страшно сказать— конечную разумность. Философия должна честно посчитаться с этим вопросом во всем его объёме, малодушно не уклоняясь и не умаляя его трудности, бестрепетно глядя в глаза надежде и отчаянию, и та философия, которая вынесет эту борьбу победоносно и пройдет этот тернистый п мучительный путь сомнений, ничего не потеряв из своего прежнего убеждения в разумности существующего н торжестве правды, достойна своего имени и может быть учительницей людей. Но сколько тех, кто, малодушно склоняясь перед этой загадкой, трусливо спешат дешевым оптимизмом замазать щели своего мировоззрения и от неё как-нибудь уклониться. К ним относится известная эпиграмма Гейне относительно профессора, штопающего лохмотьями шлафрока н колпака дыры мироздания. Но счастлив, о трижды счастлив тот, кому честно и свято удалось дострадаться до этого отрадного убеждения, ибо радостней этого убеждения не может быть ничего на свете».
Чего уж радостней! Зло бессильно, оно призрачно, оно—страшно сказать—имеет «конечную разумность», оно должно быть «оправдано» философией. Можно ли придумать более крайний оптимизм! Существует опасение, что эпиграмма Гейне относительно штопанья дыр мироздания относится как раз к проповедникам подобной елейной философии.
В евангельском предании Ирод повелевает избиение ни в чем неповинных младенцев. Грубые воины разбивают на глазах матерей головы младенцев о камни; стон стоит по всей стране. Вот зло; зло бессмысленное, не допускающее с человеческой точки зрения никакого оправдания, исключая разве того, что Ирод, подобно другим восточным деспотам, мог быть психически ненормальным человеком; да, но и это не оправдывает культуры, создающей таких деспотов. Но что нам за дело до человеческих страданий и скорбей? С высшей метафизической точки зрения и в этом бессмысленном избиении можно усмотреть разумный смысл и конечное торжество Разума... А вот пример, засвидетельствованный точными историческими данными: прочитайте историю испанской инквизиции, напр. беспристрастные показания Льоренте. Вспомните, какие ужасные не только физические, но и нравственные пытки изобретались инквизиторами, —как сжигались напр. кости умерших перед глазами мучеников, ожидавших своей участи на костре. Сколько людей погибло на кострах испанской инквизиции? По счету Льоренте 34.658, а подвергшихся жестоким пыткам и разного рода наказаниям было свыше 250.000. Но с возвышенной позиции, занимаемой метафизикой, и в этих ужасах есть «разумный смысл». Ведь и инквизиторы действовали во имя некоторого Абсолюта, и между ними далеко не все были лицемеры, но были и люди глубоко убежденные, фанатично преданные тому, что они признавали своим нравственным долгом.
В одном отношении я не могу не подчеркнуть моего согласия с г. Булгаковым: еще по поводу первого издания книги его учителя, Владимира Соловьёва, я в 1898 году писал, что «оправдание добра» явилось у Соловьева вместе с тем и оправданием зла. Я видел в этом, однако, не сильную, а как раз слабую сторону соловьевской нравственной философии. Действительно, слабость всех «теодицей» именно в том и состоит, что, признавая верховенство благого начала, они вынуждены, вопреки вопиющим фактам, усматривать в зле не такое же реальное явление, как н добро, но чистую призрачность. Если это правда, то какая, спрашивается, надобность в борьбе со злом? Не говорю уже об активной борьбе; даже и пассивное сопротивление злу, допускаемое и такими учениями, какова этика Льва Толстого, с указанной метафизической точки зрения теряет всякий смысл. Ведь бороться с призраком—сущая нелепость; он все равно сам собой рассеется, и если зло есть призрак, то пусть оно и гуляет себе преспокойно на свете, а нам остается ограничиться философским созерцанием его призрачных успехов. Я могу понять оптимистическую точку зрения Дарвина, по которой из борьбы, голода, страдания и смерти расцветает жизнь во всем её великолепии. Для меня понятна и точка зрения Ницше, философски созерцающего гибель миллионов слабых и малодушных ради победного восхождения на гору одного сверхчеловека. И дарвинизм н ницшеанство стоят ведь по ту сторону добра и зла,—первый как чисто биологическая теория, второе—как чистый имморализм. Но стоять в сверх эмпирическом царстве добра, оставаясь, по ту сторону зла путем удобного превращения его в призрак, это действительно значит проповедовать то «абсолютное лукавство», о котором говорит Гегель в месте, цитируемом г. Булгаковым. В силу этого лукавства найдут свое полное «оправдание» и ужасы инквизиции, и действия людей, руководимых, по словам Маркса «фуриями частного интереса», какие бы гадости и низости при этом не совершались.
Впрочем, и сам г. Булгаков чувствует, что здесь что-то неправильно, и он искусно преодолевает затруднение. Каким образом? Да очень просто: путем внезапного прыжка с метафизических высот на грешную землю. Он только что оспаривал мнение «позитивистов», допускающих неразумные эпохи, неразумные события. Перед лицом Абсолюта, действительно, нет избранных эпох — я бы сказал даже нет никаких эпох, потому что к Абсолюту совсем не применима форма времени... Но увы! Мы, люди, живем во времени и в пространстве. Как бы ни были добросовестны наши стремления понять Абсолют и раскрыть разумный смысл истории, но и г. Булгаков допускает, что наши усилия в этом направлении навсегда останутся несовершеннымы. Для всякого человеческого разума «отдельные события, как нашей собственной истории жизни, так и истории навсегда останутся иррациональны и с этой иррациональностью действительности, представляющей борьбу добра ц зла (борьбу действительности с призраком! М. Ф.), нам н приходится считаться в своей практической деятельности». Но какое право имели вы в таком случае осуждать «позитивистов», которые хотели иметь дело именно с этой « иррациональностью действительности», утверждая (как это утверждаете теперь и вы), что цели Абсолюта нам недоступны, а потому мы и не можем сделать их (вы это выражаете несравненно мягче—не можем прямо сделать) нашими целями. К чему же мы приходим после всей этой шумихи слов, после многозначительных обещаний познать Абсолют и постичь его цели,—обещаний, оказавшихся теперь лживыми? К тому, что мы знали и без философии г. Булгакова: к голосу совести, к нравственному закону, наконец к категорическому императиву Канта. Критиковать глубокое учение Канта по поводу метафизических прогулок г. Булгакова здесь, конечно, не место. Достаточно сказать, что тот же Кант, выражаясь стилем г. Булгакова, «неопровержимо доказал», что можно и должно признавать нравственный закон, в тоже время признавая полную теоретическую непознаваемость Абсолюта, который и фигурирует в учении Канта только в роли нравственного постулата. Все усилия г. Булгакова познать Абсолют теоретическим путём, даже если бы они и увенчались полным успехом (а он сам признает, что его познание крайне несовершенно), неспособны ни на йоту изменить нравственный закон и не придадут ему никакой высшей санкции по сравнению с тою, которою он и так уже обладает.
Очень и очень много говорит г. Булгаков об «упадке веры» и о необходимости основания новой религии. Тот, для кого категорический императив Канта является высшим началом нравственности, едва ли нуждается в услугах основателей новых метафизико-религиозных систем: мы удовольствуемся кантовской религией в пределах одного разума, дополняющей этическое учение Канта и не нуждаюшимся в суеверном культе «лукавого Абсолюта», опутавшего мир «призраком» зла, перед которым очень часто бледнеет и краснеет сама «разумная», мещански самодовольная «действительность».
IV.
От г. Булгакова перехожу к г. Бердяеву. Этот писатель, несомненно интересный и талантливый, стал известен, главным образом, благодаря книге, снабженной предисловием Струве. В этой и книге было много метких замечаний о субъективной социологии; но в тоже время были уже и зародыши метафизического мышления, выразившиеся на первых порах в своеобразной терминологии и некоторых намеках на тожество законов мышления и бытия. Теперь г. Бердяев сам признает, что в его книге отразилось переходное состояние мысли. Он перешел — и, по его словам, на этот раз окончательно — в лагерь метафизического спиритуализма н идеализма. Я лично глубоко об этом сожалею, так как, признаюсь, в то время питал на счет г. Бердяева некоторые иллюзии; мне казалось, что тогдашние его метафизические замашки составляли лишь плод неокончательной зрелости мысли и что более глубокое проникновение в философию Канта разовьет в этом писателе его недюжинные критические силы. Но уже статьи г. Бердяева, появившиеся в «Мире Божием» показали, что с ним произошел переворот, аналогичный тому, который испытал г. Булгаков. Приёмы обоих философов удивительно сходны. Оба в одинаковой мере смотрят сверху вниз на рассудочное познание. Оба предпочитают афоризмы доказательствам, оба любят ссылаться на свои будущие труды, оба обещают нам построить великолепный храм метафизики. Различие в том, что г. Булгаков сразу приступил к сооружению, начав с построения метаистории и теодицеи, тогда как г. Бердяев, признав необходимым «заменить фельетонное рассмотрение важнейших социальных проблем философским их рассмотрением, пока еще исследует м е т о д ы построения метафизики и выражает нам свою субъективную уверенность в том, что метафизика может быт построена. «Я отрицаю кантовский агностицизм, говорит он, и более кантианцев верю в возможность построить метафизику разными путями».
Порою кажется, что вот, наконец, г. Бердяев нашел хотя один путь, подошел вплотную к метафизике и начнет ее обосновывать: но она снова ускользает от него, как мираж в пустыне. Метафизика, говорит он, объединяет этику и науку в высшем сверх эмпирическом познании. Метафизика, к которой этика по мнению г. Бердяева «неизбежно приводит», объединяет в понятии Верховного Блага индивидуальное духовное «я» с универсальным духовным «я». Чтобы сразу, т. е. еще до построения системы, определить свое место в философском пантеоне, г. Бердяев поясняет, что его точка зрения характеризуется, как соединение спиритуалистического индивидуализма с этическим пантеизмом. Элементы будущей метафизической системы г. Бердяева, если не считать нынешних заимствований у Гегеля ц Фихте, пока еще довольно скудны. Он часто говорит о сверхиндивидуальном сознании, о победном шествии универсального «я» или мирового духа; но что это за мировой дух и сверхиндивидуальное сознание—простой ли это миф, психологическая абстракция или некоторое реальнейшее существо—обо всем этом пока можно только догадываться, так как г. Бердяев не обосновывает своей догмы, а просто изрекает. После того, что нами сказано о г. Булгакове, можно и не касаться великолепного метафизического отрицания зла, которое можно найти также и у г. Бердяева. Достаточно заметить, что, судя по намекам г. Бердяева, зло оказывается лишь неполной реализацией добра. Точно такими же намеками ограничивается г. Бердяев и в указаниях на необходимость основания новой религии, в которой он обещает дать синтез идей богочеловека и человекобога — другими словами обещает нам синтез христианства с ницшеанством. После того, как сам г. Бердяев в той же самой статье утверждал, что «эмпирическая личность толкала нас в объятия гедонизма и имморализма», он сам падает в объятья имморалиста Ницше и усматривает в учении этого заклятого врага метафизики своего рода метафизическое учение об абсолютном добре.
Несколько лет тому назад я сам указал на некоторые элементы в философии Ницше, сближающие противника «рабской морали» с христианством, которого Ницше никогда не понимал. Мне кажется, я сделал это указание в терминах, гораздо более определенных, чем делает теперь г. Бердяев: мною было показано, что в «Заратустре» идет речь о трех стадиях развития человеческой личности, которые Ницше на своем образном языке называет стадиями «верблюда, льва я ребенка». Стадия «льва» это и есть та, на которой остановился сам Ницше, не доведя своего учения до конца. Но это еще не последняя ступень освобождения человеческой личности. Последняя ступень и есть стадия ребенка, состояние невинности, близкое к христианскому учению о святости. Полемизируя против «рабской морали», Ницше не замечал, что он смешивает исторические наслоения христианства с чистой христианской идеей, признающей исключительно царство не от мира сего,—а в этом царстве рабы также невозможны, как и господа. Здесь я охотно приведу слова г. Бердяева, который по существу дела говорит тоже самое, что было высказано н свое время мною. «Христианство, - говорит г. Бердяев, - как идеальное (не историческое) вероучение никогда не опускается до полицейского понимания нравственности. Того уважения к достоинству человека и его внутренней свободе, которое составляет неувядаемую нравственную сущность христианства, не могут отнять у него современные лицемеры, имеющие дерзость прикрывать и свою духовную наготу спиритуалистическими словами, из которых вытравили всякое ценное содержание». И мне снова остается пожалеть, что г. Бердяев не удержался на этой чисто этической точке зрения и совсем механически связал христианскую этику с своей метафизикой, в которой пытается дать синтез «спиритуалистического индивидуализма с этическим пантеизмом». Если уж говорить о метафизике подлинного христианства, то ничто не чуждо ей в такой мере, как пантеизм. Вся сила христианского спиритуализма основана как раз на признании л и ч н о г о, живого Бога (Богочеловека) и на идее личного бессмертия, а никак не на слиянии универсального «я» с «мировым духом». Я прибавлю к этому, что истинно мировое значение вообще имели только те религии, которые опирались не на сверхиндивидуальное сознание, не на мировое «я», в котором утопает всякая индивидуальность, а на представление идеальной личности, воплощенной в лице основателя религии. Индийский пантеизм, стремившийся к слиянию сущности человека—Атмана, с мировою сущностью—Брахманом никогда не имел значения мировой религии: настоящими мировыми религиями явились буддизм (благодаря культу личности Будды, а никак не благодаря Нирване), христианство и магометанство (ислам – ред. 2024).
Некоторые критики уже упрекали г. Бердяева в том, что его пантеистические стремления прямо приводят к устранению того самого индивидуализма, который он же пытается сделать основою этики. Это было высказано, например, редактором разбираемого нами сборника, г. Новгородцевым, в его книге «Кант и Гегель». Такой упрёк, по мнению г. Бердяева, основан на чистейшем недоразумении». Идея личности, говорит он, есть основная идея этики; но именно в личности мы мыслим универсальное духовное содержание. Человек свят и неприкосновенен не во имя своего случайного эмпирического содержания, но как носитель высшего духовного начала. Если эти утверждения г. Бердяева приводят к выводам, с которыми и мы согласны, то единственно потому, что в этих положениях мы видим социологический смысл, не имеющий ничего общего ни с сверхиндивидуальным сознанием, ни с мировым духом, ни с пантеизмом.
Действительно, попробуем перевести все утверждения г. Бердяева на язык социологии. Основная идея этики есть идея личности; в этом мы согласны с г. Бердяевым. Но что такое «личность»?
Какой- нибудь восточный деспот не признает личности в своих подданных; древний римлянин не признавал её в своем рабе. У первобытных народов личность всецело поглощается племенем, родом или кланом: «мы» есть понятие, господствующее над понятием «я». Ребенок, говорящий о себе в третьем лице, еще не вполне сознает свою психическую индивидуальность, а еще позднее начинает ценить в себе нравственную личность. Понятие личности составляет таким образом сравнительно поздний психический продукт, развевающийся на известной стадии общественности, а именно тогда, когда ум способен к некоторой абстракции и когда коллективная борьба за жизнь уже не поглощает всех сил человека. Человек неприкосновенен, как личность, т. е. как идеальная, равная всякой другой, социальная единица. Для понимания этого идеального социального равенства необходимо более широкое развитие общественности, устранение племенных, сословных, классовых преград и антипатий, но прежде всего усиление способности к абстрактной мысли, так как грубый ум с трудом усматривает глубокие сходства и не легко отвлекается от поверхностных различий. Человек чтит в другом человеке не своего Бога, как утверждает г. Бердяев, а свою собственную физическую и нравственную природу, постигнутую в другом человеке сквозь грубую внешнюю кору различий: он усматривает даже в чужом—родственное существо, ближнего, брата. Вот простое объяснение этического универсализма, которое, быть может, убедит г. Бердяева, что и «позитивизм» вовсе не находится в безнадежном положении по отношению к основным вопросам этики. И правда «позитивист» не поспешит с неосторожным обобщением своего «универсализма» на всю вселенную, он не станет сразу постулировать нравственный миропорядок, не станет говорить и об универсальном развитии в смысле теодицеи, но придаст своим утверждениям чисто человеческий, а стало быть и социологический смысл, при чем в виде идеала укажет на необходимость этического отношения ко всем вообще живым существам. Сам г. Бердяев говорит о воплощении в жизни человечества нравственного закона путем общественного прогресса. Он говорит даже об индивидуальности, как результате «перекрещивания различных общественных кругов». Стало быть и он признает законность точки зрения, выводящей человеческую личность из социального общения людей; но г. Бердяев при этом не усматривает, что такая точка зрения делает совершенно излишней его метафизическую теорию личности. Эта же социальная точка зрения позволяет и научное обоснование «естественного права», которое потому и не может иметь характера неизменности, что всякий раз представляет идеальную норму, выведенную из положительных и отрицательных сторон д а н н о г о социального состояния. В обществе бушменов показалась бы дикою мысль о «естественном праве на труд»; древняя греческая философия, возникшая в обществе, где рабство считалось «естественным состоянием» многих людей, отшатнулась бы от естественного права на физический труд точно также, как и от идеи всеобщей равноправности и равного человеческого достоинства: немногие софисты и государственные люди, додумавшиеся до подобных естественных нрав, не могли бороться с общим течением.
Сказанное о равном человеческом достоинстве можно распространить и на свободу. Совершенно прав г. Бердяев, что свобода не есть только отрицательное понятие: она не только свобода от всяких стеснений и пут, но в ней есть и положительная сторона—внутреннее развитие п совершенствование личности. Но и это понятие самосовершенствования ни малейшим образом не требует метафизического обоснования. Мало того, с метафизической точки зрения оно нелепо, ибо совершенствование есть изменение, а понятие изменения неприменимо к Абсолюту. «Понятие эмпирической личности, - говорит Бердяев, - не только неопределенно, но даже совсем не мыслимо, и от него нет пути к царству свободы. Быть личностью, быть свободным человеком значит сознать свою нравственно разумную природу, выделить свое нормальное идеальное «я» из хаоса случайного эмпирического сцепления фактов, а сам по себе этот эмпирический хаос не есть еще личность и к нему неприменима категория свободы. А склониться перед эмпирическим фактом—эго идолопоклонство перед алтарем необходимости, а не богослужение перед алтарем свободы».
Эмпирическая личность не есть «немыслимое понятие», но такое, которое было признано самим г. Бердяевым, когда он говорил об индивидуальности, как социальном продукте «перекрещивания различных общественных кругов». Как было уже замечено, эмпирическое понятие личности есть психологический продукт социального развития. Быть личностью значит выделить своё «я» прежде всего из племени, рода, сословия, класса, рутины, традиции, моды, из всякой стадности. Эмпирическая личность не продукт «случайного» сцепления фактов, не «хаос», существующий в этом случае лишь в уме г. Бердяева, а реальнейший факт, составляющий результат вполне закономерного и подлежащего научному исследованию исторического процесса, так как во всех известных нам обществах прогресс шел именно от безличности н стадности ко все большему и большему расширению сферы личности.
Только чудовищная умственная привычка мыслить все в метафизических терминах могла заставить г. Бердяева забыть, что то, что он считает случайным, именно индивидуальное, и составляет красоту и ценность всякой личности, которая в противном случае утонула бы в казарменном безразличии универсального «я». Только непонимание важнейших результатов кантовской критики позволяет метафизику «мыслить», что хотя бы одно единственное положит е л ь н о е этическое предписание может иметь какое-либо с о д е р ж а н и е по отношению к «сверх эмпирической» личности. Если эта последняя еще может воздерживаться от действий (так как в утверждении «абсолютное ничто не действует» нет логической нелепости), то всякое действование, всякая активность предполагает причинность и изменяемость, а в применении к «сверх эмпирическому миру» это пустые слова. «Должное» не тожественно с «сущим»—в этом г. Бердяев совершенно прав: но «осуществление должного» немыслимо в том мире, где, как показал Гегель (и в этом его заслуга, до сих пор не вполне оцененная), бытие сливается с небытием, сущее же есть то же, что ничто.
Отличие точки зрения г. Бердяева от нашей всего лучше будет видно, когда мы перейдем к вопросу об отношении внутренней свободы к свободе внешней. Внутренне свободен каждый, кто соблюдает нравственный закон. Лермонтовский рыцарь, закованный в каменный панцирь, т. е. ввергнутый в темницу, внутренне свободен, если он выполнил то, что считал своим нравственным долгом. Гус был внутренне свободен, когда его возвели на костер. Итак, даже психологически «внутренняя свобода» возможна, хотя её недостаточно для деятельности; и так как жизнь есть деятельность, то одной «внутренней свободы» недостаточно для полноты жизни. Но для меня совершенно неясно, каким образом г. Бердяев, при своем отрицании эмпирической личности, может говорить о «непримиримости» внешнего гнета, насилия и принуждения с метафизическим внутренним самоопределением личности! Ведь никакой внешний гнет не может коснуться внутреннего самоопределения: оставаясь последовательным, г. Бердяев должен был бы поэтому сказать, что внешний гнет, как и всякое зло, есть (по его же теории) чистый призрак, и что гнет не нарушает ничьей нравственной свободы. Это привело бы к весьма оптимистическому взгляду на всякое насилие. Последовательные спиритуалисты именно так и смотрели на дело: они с восторгом принимали мученический венец, благословляя угнетателей. Самое грубое насилие никогда не вызывало у них никакого гнева и сопротивления. А г. Бердяев негодует и возмущается! Этим самым он доказывает, что и ему не чужда «эминрическая11 точка зрения, которая не хочет ради вечного вполне пренебречь земною жизнью человека. «Могут ли, спрашивает г. Бердяев — и здесь мы снова видим в нем «сына земли»—могут ли те люди, которые наконец сознали в себе достоинство человека и неотъемлемые естественные права своей личности, терпеть насилие и бесправие? На эти вопросы не может быть двух ответов; тут всякое колебание было бы позорно.» Да,—скажем и мы, если речь идет о гнете и насилии над эмпирической личностью. Нет, —если вместе с Бердяевым усматривать в личности только «сверх эмпирическое» начало, к которому, без сомнения, не может прикоснуться ни бич господина, ни топор палача.
Понятно ли для вас теперь, г. Бердяев, куда привело бы вас действительно последовательное применение вашей теории? Понятно ли вам, что вы, выражаясь стилем вашего коллеги г. Булгакова, сделали на этот раз «сверхсметное позаимствование у эмпиризма», что, впрочем, приносит «новым идеалистам» величайшую честь. Как герои известного греческого мифа, они обретают силу всякий раз, когда, после падения в непосильной погоне за Абсолютом, прикасаются к земле. Пусть же и впредь «земля» придает силы молодым и талантливым писателям, затрачивающим теперь свои способности на напрасные попытки воскресить давно разложившийся труп «Абсолюта». Больно и обидно становится при виде этой бесплодной растраты свежих сил...
М. Филиппов.