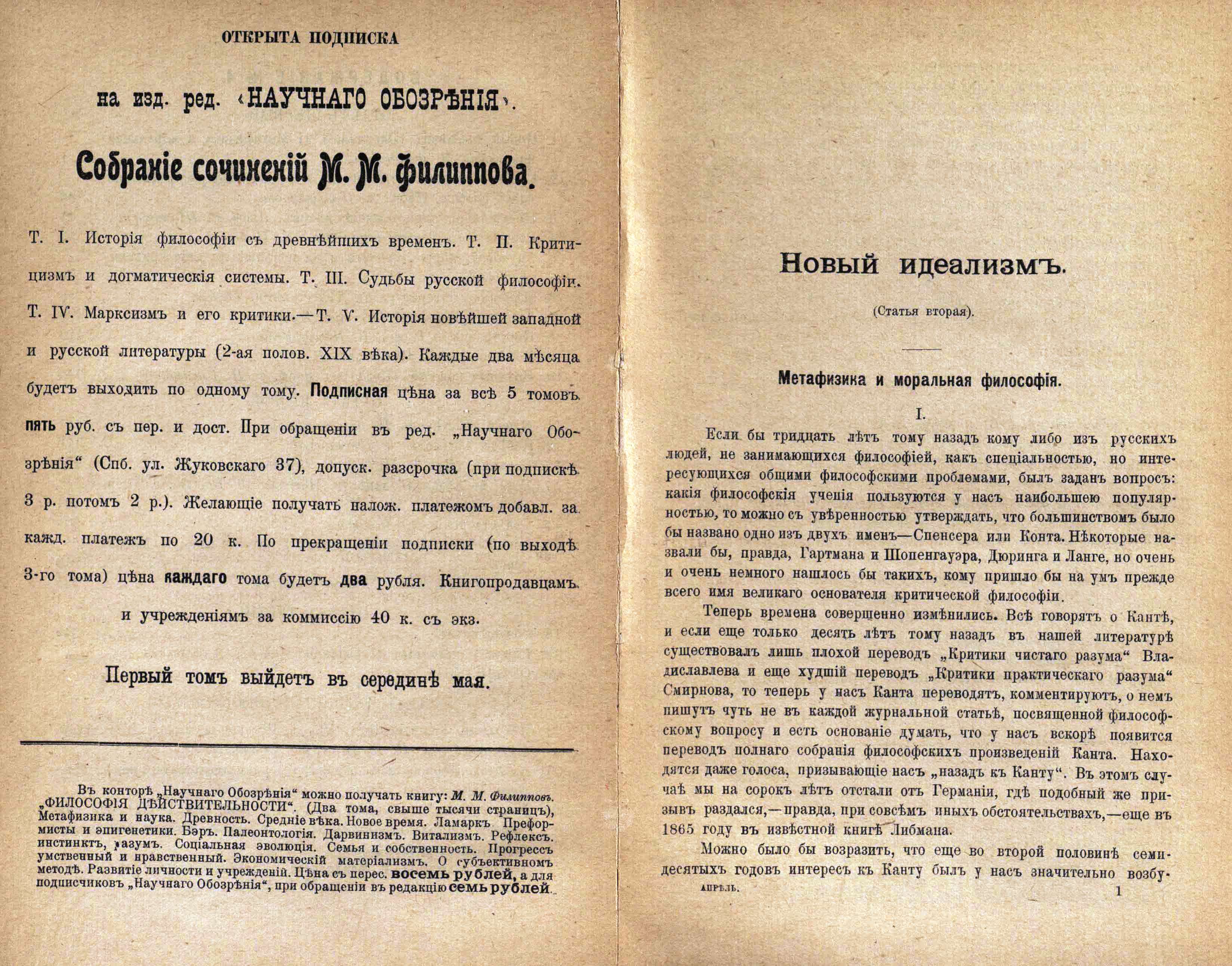
Новый идеализм.
(Статья вторая).
Метафизика и моральная философия.
I.
Если бы тридцать лет тому назад кому-либо из русских людей, не занимающихся философией, как специальностью, но интересующихся общими философскими проблемами, был задан вопрос: какие философские учения пользуются у нас наибольшею популярностью, то можно с уверенностью утверждать, что большинством было бы названо одно из двух имен—Спенсера или Конта. Некоторые назвали бы, правда, Гартмана и Шопенгауэра, Дюринга и Ланге, но очень и очень немного нашлось бы таких, кому пришло бы на ум прежде всего имя великого основателя критической философии.
Теперь времена совершенно изменились. Все говорят о Канте, и если еще только десять лет тому назад в нашей литературе существовал лишь плохой перевод «Критики чистого разума» Владиславлева и еще худший перевод «Критики практического разума» Смирнова, то теперь у нас Канта переводят, комментируют, о нем пишут чуть не в каждой журнальной статье, посвященной философскому вопросу и есть основание думать, что у нас вскоре появится перевод полного собрания философских произведений Канта. Находятся даже голоса, призывающие нас «назад к Канту». В этом случае мы на сорок лет отстали от Германии, где подобный же призыв раздался, —правда, при совсем иных обстоятельствах, —еще в 1865 году в известной книге Либмана.
Можно было бы возразить, что еще во второй половине семидесятых годов интерес к Канту был у нас значительно возбужден через посредство неокантианцев и представителей научной философии, встретивших в России популяризаторов в лице Лесевича и др. Замечательно, однако же, что даже неокантианцы не привели в те времена русскую мысль к самому источнику, т. е. к Канту, который продолжал интересовать только кабинетных философов. Таким образом в деле возвращения к Канту факт нашей запоздалости остается неоспоримым. Я беру на себя смелость даже утверждать, что несмотря на значительное оживление философского интереса вообще и несмотря на усиление интереса к Канту в особенности, учение великого кенигсбергского философа все еще недостаточно проникло в широкие круги образованных людей—говорю здесь исключительно о России, так как в Германии скорее можно удивляться тому, что новейшие авторы недостаточно пользуются тем, что уже сделано предыдущими поколениями в деле дальнейшего развития учения Канта. У нас здесь смягчающим обстоятельством является же полное отсутствие традиции, так как ни в одну из предыдущих эпох философия Канта не властвовала у нас над умами.
Лучше поздно, чем никогда. Я с своей стороны, вот уже десять лет, неустанно твержу, что только глубокое знакомство с учением Канта может предохранить нас, от мертвящего догматизма, и от мечтательной метафизики и если в настоящее время именем Канта прикрываются как раз догматизирующие и фантазирующие философы, то это следует приписать единственно недостаточно основательному «проникновению» в учение, которое рано или поздно рассеет туман и откроет путь для новой бодрой, деятельной, глубоко жизненной и в то же время глубоко нравственной философской к р и т и к и — так как со времен Канта философия может и должна быть т о л ь к о критикой.
Бросив взгляд на философское миросозерцание, господствовавшее у нас лет тридцать тому назад, мы можем нарисовать, разумеется лишь самыми широкими штрихами, следующую картину (Картина эта во многом отличается от той, которую дал в разбираемом мною сборнике автор, подписавший свое нмя буквами П. Г. Не мне судить, чье изображение точнее, хотя не могу не признать, что из статей сборника очерк II. Г. один из самых блестящих.).
На переднем фоне этой картины вырисовываются прежде всего две фигуры титанов мысли—Огюста Конта и Герберта Спенсера— первая напоминающая страстного католического проповедника, вторая спокойная и нуритански суровая. Фигура Конта уже начинает бледнеть, тогда как Спенсер господствует над умами, и его русские противники являются прежде всего его учениками, за исключением Лаврова, впрочем, значительно подчинившегося его влиянию. Слова: эволюция, прогресс, дифференциация, интеграция пестрят в журнальных статьях и некоторые авторы, как напр., Южаков, не знают даже меры в их употреблении. Идея эволюции господствует всюду: в ней усматривают величайшую из научных идей XIX века. На втором плане, но все же очень на виду, высится мощная фигура Лаврова, в которой как бы сливаются традиции идеализма и реализма, поскольку оба эти течения были представлены в истории русской философии. Глубокие познания по истории философии соединяются в произведениях Лаврова с основательной подготовкой в области точных наук. Реалистические стремления—плод научных занятий—сочетаются в нем с идеалистическими порывами, находящимися в тесной связи с его «революционною метафизикою», как назвал бы Конт некоторые социальные теории Лаврова. Через посредство Фейербаха Лавров связывает традиции русской философии с Гегелем и с Кантом, отчасти примыкая и непосредственно к великим немецким идеалистам. У них он заимствовал основы различения между существуюицим и должным, —между бессознательной эволюцией, вырабатывающей культуру и сознательным прогрессом, образующим цивилизацию или область исторической жизни. Заимствована была лишь основная мысль, но разработка ее, терминология, применение в подробностях было самостоятельным трудом Лаврова. Он впервые развил знаменитую в свое время п долго влиявшую на умы теорию критически мыслящих личностей, до некоторой степени аналогичную карлейлевскому культу героев и героического в истории. Я не стану здесь излагать этой теории—она была не только теорией, но и практикой, и даже религиозным убеждением, во имя которого совершались подвиги самопожертвования. Замечу только, что критически мыслящим личностям Лавров противополагал не только некультурную массу, но и тех, кого он называл дикарями высшей культуры, куда причислял и рыцарей капитала, и представителей «задающий тон» газетной прессы и даже многих ученых мужей.
В другом месте я старался показать, что вся эта теория критически мыслящих личностей находится в тесной связи с той психологией и теорией познания, которой следовал Лавров и в которой стремление к монизму смешивалось с явными дуалистическими тенденциями. «Интеллигенция» в его учении играла такую же двойственную роль, как и душа в его психологических теориях. Воздействие исторических личностей на ход истории объяснялось им так же неопределенно, как и вся вообще свободная деятельность человека, которую ему лишь формальным образом удалось примирить со своим строгим детерминизмом. Приближаясь во многих отношениях к так называемой русской субъективной социологии, считающей его даже своим основателем, Лавров с другой стороны подходил иногда весьма близко и к материалистическому пониманию истории, указывая напр., что в порядке генезиса, в противоположность современному пониманию значения форм мысли, эти последние имеют своим источником техническую мысль и порою полуинстинктивное, большею же частью грубо эмпирическое творчество общественных форм.
Рука об руку с Лавровым, хотя н ниже его ростом, но зато блистающая более яркими красками, бросается в глаза весьма заметная фигура Михайловского. Уступая Лаврову в глубине философских и научных знаний, он превосходит своего учителя блеском стиля и живостью темперамента, а потому является самым характерным и наиболее популярным представителем умственного движения семидесятых годов. Его нервная субъективность отражается и на его теоретических построениях: он пытается развить далее учение Лаврова, но на самом деле утрирует теорию, возводя душевные волнения и настроения в ранг научного метода. Заимствовав от Лаврова различение между оценкой явлений и их теоретическим объяснением, Михайловский не усмотрел того, что уже сознавал Лавров, а именно, что принцип оценки лишь в таком случае мог бы дать особый метод в общественной науке, если бы мы могли найти объективные, т, е. общеобязательные для всех разумных существ, правила такой оценки. Вместо этого Михайловский возвел факт существования субъективных оценок в методологический принцип, против чего возражал сам Лавров еще в начале семидесятых годов, хотя и он даже до конца своей деятельности не мог найти никакого объективного мерила, посредством которого можно было отличать должное от недолжного. Указав на зависимость «субъективного элемента понимания от общественной среды», Лавров остановился на полпути и этим указанием только умалил значение своей теории «критически мыслящих личностей». На долю Михайловского досталось развить эту теорию во всей её односторонности, приводящей в конце концов к полному индивидуальному произволу в решении важнейших нравственных и общественных задач.
Если бы мы далее присмотрелись к картине философской мысли семидесятых годов, то она представила бы для нас много странного. Тут можно было бы встретить и представителей вполне наивного реализма и натуралистического материализма, хотя ряды их значительно убавились по сравнению с предыдущим десятилетием, но на ряду с ними, также на заднем фоне, н идеалистов—в том числе Чичерина, значение которого снова возросло в самое последнее время, и умершего в 1874 году Юркевича, на которого напрасные надежды возлагали противники материализма и позитивизма. Если Чичерин пользовался всегда известностью, по крайней мере среди юристов, то Юркевича почти не читали. Значение его в истории русской философии определяется не столько его полемикой против материализма, сколько влиянием, оказанным им на своего ученика Владимира Соловьева, очень скоро превзошедшего учителя. В год смерти Юркевича появилось сочинение Соловьева «Кризис в западной философии», стоявшее в самом резком противоречии с тогдашним настроением. Однако тогда уже все почувствовали в Соловьеве крупную силу, с которой пришлось считаться таким людям, как Каверин. При всем том, Соловьев составил свою популярность не столько как автор «Кризиса» и даже капитальной «Критики отвлеченных начал», сколько как талантливый лектор, способный «глаголом жечь сердца людей». Последствия его проповеди известны: с 1882 по 1898 год, — год открытия петербургского философского общества, —публичная кафедра была закрыта для Соловьева. Это одно уже отразилось неблагоприятно на его деятельности и не дало ему пользоваться тем значением, которое он мог бы иметь. Но помимо этой внешней причины была и та, что тогда еще не настало его время. Теперь оно по-видимому настало: мы видим, что многие из философов молодого поколения прямо признают себя его учениками.
Я невольно забежал вперед, так как фигура Соловьева слишком привлекательна для того, чтобы от неё скоро оторваться.
Необходимо, однако, восстановить прерванную нами последовательность хода развития.
К концу семидесятых и началу восьмидесятых годов прошлого столетия относится упомянутая уже популяризаторская деятельность Лесевича, ознакомившего русскую публику с немецкой «научной философией». Восьмидесятые годы, как известно, не были благоприятны для развития философской мысли. В это время у нас часто ограничивались усвоением того, что было достигнуто на Западе, частью же относились с пренебрежением ко всякой философии: в области юриспруденции, напр., явились исследования, возводившие уголовное право Московской Руси (с батогами включительно) в ранг естественного права, свойственного природе русского народа.
В эти годы, однако, зрела мысль Соловьева, мало-помалу разрывавшего связи, скреплявшие его со кружком Каткова и с славянофилами; с другой стороны, развивались экономические и социальные теории, сформулированные еще в предыдущем десятилетии под лозунгом народничества. Это последнее, несмотря на весь свой социальный утопизм, в вопросах морали стояло целиком на почве эволюционизма и менее всего было склонно идти на встречу метафизике и теологии: даже народные религиозные рационалистические движения представляли для народников или только объект изучения, или материал для построения общественных форм.
Конец восьмидесятых и начало девяностых годов характеризируются сильным упадком философской мысли. На первый план выступают разные декадентские течения, тон задает представитель своеобразного идеализма— Волынский, проповедующий смесь Канта и Гегеля с Ветхим заветом и с французским символизмом. Как раз в то время, когда, казалось, философская мысль совершенно иссякла в России, возникло новое движение, узкое и одностороннее, но сильное своей искренностью и тесной связью с «проклятыми вопросами». Я говорю о так называемом экономическом материализме. Крайности этого направления известны: они не раз возбуждали против себя ожесточенную полемику, не всегда справедливую и вдавшуюся в обратные крайности. Если экономический материализм был не прав в своем сужении значения личности, то противники его нередко переходили всякую меру, принципиально отвергая существование какой бы то ни было закономерности социальных явлений или же навязывая «экономическим материалистам» теорию, но которой будто бы вся история человечества сводится к «борьбе за первое место у корыта» (слова Риккерта. Здесь не место говорить о борьбе, происходившей у нас между народничеством и марксизмом, так как эта борьба, отошедшая уже в область истории, имеет только косвенное отношение к философии. Нельзя, однако. не упомянуть о другой, на этот раз уже чисто философской полемике, которая велась между «марксистами» и представителями «субъективной социологии» —борьбе, отголоски которой слышатся и теперь, хотя теперь она вступила уже в совершенно новый фазис.
Наиболее выдающимися эпизодами этой борьбы было появление двух книг, сформулировавших основы миросозерцания русского марксизма, —я говорю о «Критических очерках» Струве, 1894, и «Монистическом взгляде на историю» Бельтова, 1895. Из этих двух книг произведение Струве отличалось гораздо меньшей цельностью взглядов, как в экономической, так и в философской области, так как тогда уже представляло в экономике слияние взглядов Маркса с воззрениями Листа и других буржуазных экономистов, а в философии—сочетание экономического материализма с неокантианством. Гораздо цельнее и выдержаннее — миросозерцание ортодоксального марксиста Бельтова, оставшееся и с той поры неизменным. Бельтова упрекали в крайней прямолинейности: но эта особенность у него вытекает из стремления избежать противоречий, тогда как Струве с самого начала был склонен к разного рода антиномиям, причем отдельные тезисы и антитезисы развивались им, пожалуй, еще се большей прямолинейностью, чем Бельтовым. Струве, а не Бельтову, принадлежит усвоение и развитие формулы, гласившей, что человек в социологическом смысле есть совершенный нуль, — формуле, которая со временем должна была «превратиться в свою полную противоположность». Струве с похвальным бесстрашием довел в своей полемике против субъективистов до последнего логического вывода мысль, намеченную уже Лавровым: вполне сознательно, но в то же время чисто догматически, он свел должное к эмпирически существующему. Бельтову, наоборот, было чуждо, выражаясь словами одного из новых идеалистов, философское недоумение, которое содержалось и в русской субъективной социологии, и в «Критических очерках» Струве. Бельтов решал все вопросы безапелляционно и догматически; но следует отметить, что решения его были свободны от некоторых крайностей Струве. Так, он с самого начала протестовал против сведения личности к нулю. «Диалектический материализм», - говорит он, - знает, что права разума необъятны и неограниченны, как и его силы. Он говорит: все, что есть разумного в человеческой голове, т. е. все то, что представляет собою не иллюзию, а истинное познание действительности, непременно войдет в эту действительность, непременно внесет в нее свою долю разумности. Отсюда видно, в чем заключается, по мнению материалистов диалектиков, роль личности в истории. Далекие от того, чтобы сводить эту роль к нулю, они ставят перед личностью задачу, которую, употребляя обычный хотя и неправильный термин, следует признать совершенно исключительно идеалистической (курсив Бельтова)». Так как человеческий разум может восторжествовать над слепой необходимостью, только познав её собственные внутренние законы, только побив ее её собственной силой, то развитие знания, развитие человеческого сознания является величайшей, благороднейшей задачей мыслящей личности. Но для развития этого человеческого сознания теория критически мыслящих личностей представляется Бельтову совершенно неудовлетворительной. Он решительный противник культа героев. Не следует, говорит он, оставлять светильника в тесном кабинете интеллигенции. Пока существуют герои, воображающие, что им достаточно просветить свои собственные головы, чтобы повести толпу всюду, куда им угодно, царство разума останется красивой мечтою. Сама толпа должна стать героичной и делать историю. Отсюда демократический идеал—развитие сознания не избранного меньшинства, а трудящихся масс. Таким образом Бельтов не усматривает никакого противоречия между экономическим материализмом и теорией, провозглашающей развитие личности целью общественного развития. Он резко возражает и тем, кто, подобно Михайловскому, упрекал Гегеля в принижении прав личности. Правда, у Гегеля, говорит он, личность является орудием мирового духа и в этом смысле она несвободна, но развитие этого духа, ведь и есть история развития самосознающей личности. Можно даже сказать, что Гегель создал культ героев, впоследствии подхваченный гегельянской левой, Фейербахом и особенно Бруно Бауэром, которые, по мнению Бельтова, предвосхитили воззрения русских субъективных социологов. Этим воззрениям Бельтов противопоставляет не отрицание личного начала, не принижение роли развитого самосознания, а наоборот, обоснование самосознания масс на вполне объективной почве возрастания производительных сил. Техника и экономика не поглощает психологию, а наоборот, дает для неё незыблемый базис.
Книга Бельтова и дальнейшие статьи того же автора (под псевдонимом Кирсанова) в одном из русских журналов были последним словом русского диалектического материализма и, следует добавить, словом, с которым еще придется считаться новым идеалистам, несмотря на усвоенный ими высокомерный тон по отношению к точке зрения Бельтова, которой они придают наименование «элементарной», хотя следует сказать, что многие положения Бельтова до сих пор остались для них не вполне ясными. Так или иначе, но дальнейшее развитие воззрений Бельтова было бы возможно лишь при помощи критикореалистической точки зрения, требующей, как исходной точки, теории познания, тогда как сам Бельтов относился и продолжает относиться к исследованиям этого рода, как к совершенно бесплодной схоластике. В особенности малое знакомство Бельтова с Кантом отразилось роковым образом на его взглядах, придав им печать неподвижного догматизма, не допускающего дальнейшего развития. Следует, однако, надеяться, что найдутся новые силы, которые, не прерывая связи с диалектическим материализмом, пойдут гораздо далее его.
Теперь необходимо присмотреться к совершенно иному течению, которое вначале ограничивалось узкими кругами людей, специально интересующихся философией и лишь в самое последнее время разлилось широким потоком.
Было уже сказано, что в семидесятых годах идеалистические течения в нашей философии, хотя и господствовавшие в кругу специалистов, мало пользовались вниманием общества. Даже Соловьев и Чичерин стояли в тени, а если и привлекли интерес в следующем десятилетии, то скорее, как публицисты. Восьмидесятые годы дали нам несколько солидных философских работ, но не дали философского течения. В 1882 году появилась напр., «Философия будущего», Ник. Григ. Дебольского; в 1886 году, его же труд: «0 высшем благе или о верховной цели нравственной деятельности», — труды, с которыми не мешало бы познакомиться новым идеалистам, вообще довольно беззаботным по отношению к своим русским предшественникам. Но эти и другие труды, каково бы ни было их значение для будущего русской философии, в свое время остались почти незамеченными.
Большое значение в истории русской философии вообще и русского идеализма в особенности следует придать основанию в первой половине девяностых годов прошлого века Н. Я. Гротом журнала «Вопросы философии». Грот лично для себя пережил философский кризис, аналогичный тому, который испытали экономические материалисты, превратившиеся в идеалистов. В начале своей деятельности он был решительным эволюционистом и агностиком в духе Спенсера, но затем решительно перешел в лагерь метафизического идеализма. Хотя в созданном им журнале помещалось не мало работ самых различных направлений, но тон задавался, без всякого сомнения, самим редактором и примкнувшими к нему идеалистами. Так как я с самого начала возникновения этого органа выступил по отношению к нему полемически, то меня никто не заподозрит в пристрастии, если я скажу, что невозможно не признать крупной роли, сыгранной этим органом в развитии русской философской мысли. Этим я не предрешаю ответа на вопрос, считать ли эту роль безусловно положительною.
Целый ряд статей самого Грота, затем Владимира Соловьева, его ученика кн. Трубецкого, Лопатина и мн. др. авторов, был направлен к тому, чтобы развить в русском читателе «метафизическую потребность» и дать ей прочное обоснование. В 1897 году в этом журнале появилась между прочим и обратившая на себя общее внимание статья Струве, который тогда, однако, стоял еще на почве неокантианства. Решительный поворот Струве и его единомышленников в сторону метафизического идеализма начался позже: ярким выражением его является известная книга Бердяева с предисловием Струве, в которой сам Струве выступает уже как убежденный метафизик. Это сразу меняет и характер полемики новых течений с течениями семидесятых годов. Вместо «производительных сил» начинают оперировать не только с категорическими императивами, но и с теоретически познаваемыми абсолютами, отвергнутыми уже критикой Канта. Таким образом для суждения о роли нового движения, «возврат к Канту» является уже не модным призывом, а настоятельною потребностью.
II.
Главные результаты всей философии Канта могут быть выражены следующим образом.
Наше теоретическое познание, обусловленное чувственными формами пространства и времени и рассудочными категориями количества причинности и др., вращается исключительно в мире опыта. Теоретическое познание сверхчувственного, сверхопытного для нас недоступно. Единственное, что мы можем сказать о трансцендентных идеях, каковы идеи свободы, бессмертия и Бога, сводится к тому, что в этих идеях нет внутреннего противоречия и что, если нельзя теоретически доказать существования Бога, бессмертия и свободы, то точно также нельзя теоретически доказать их не существования. С теоретической точки зрения теизм и атеизм—равносильные и одинаково недоказанные и недоказуемые учения; но далеко в неодинаковом положении находятся оба эти учения, но отношению к практической философии, т. е. к философским основам нравственной деятельности человека.
Существование морального закона, позволяющего различать должное от недолжного, есть по Канту непререкаемый факт, непосредственно свидетельствуемый нашим сознанием. Этот моральный закон безусловен и не терпит никаких исключений. Но в противоположность всякому внешнему принуждению воли, закон этот только тогда и может считаться моральным, когда ему следуют свободно. Таким образом свобода воли является первым постулатом практического разума. Но воля, направленная моральным законом, имеет своим необходимым объектом достижение высочайшего блага в мире. Полное приспособление воли к высочайшему благу дает идеал святости, требующий бесконечного развития. Но бесконечное развитие возможно лишь в бесконечном времени, откуда является второй постулат— необходимое признание личного бессмертия, т. е. вечного существования моральной личности. Наконец необходимым условием для самого существования нравственного мира, стремящегося к высшему благу, является самостоятельное существование этого высшего блага, которое и есть Бог. Итак, хотя мы теоретически совершенно неспособны познать Бога и доказать существование абсолютной свободы воли и бессмертия моральной личности, но, исходя из несомненного существования нравственного закона, мы делаем истину существования Бога, бессмертия и свободы совершенно непререкаемой и не устраняемой более никакими софистическими доводами.
Таково, в нескольких словах, учение Канта. Трудно более резкими чертами провести пропасть между существующим, познаваемым путем опыта и науки, и должным, непосредственно сознаваемым всяким разумным существом: и остается только удивляться тому, что новые русские идеалисты так поздно пришли к необходимости различать должное от сущего, как будто для этого необходимой отправной точкой была русская субъективная социология, в свою очередь повторявшая отголоски кантовского различения, доставшееся ей из третьих рук! Но этот окольный путь, посредством которого учение Канта вошло в сознание новых русских идеалистов, значительно повредил цельности и стройности миросозерцания, так как во время долгого пути, к кантовской критике, содержащей лишь весьма незначительную примесь догматизма, пристали, как пыль, целые наслоения послекантовских догматов.
Здесь было бы совершенно неуместно задаться попыткой дать критический анализ гениального учения Канта. Я могу наметить только схему тех возражений, которые, по моему мнению, должны быть направлены против его практической философии. Возражать Канту ссылкой на изменчивость нравственных идеалов, —на то, что существуют дикари, считающие доблестью убийство врагов и что эта доблесть признается даже до сих пор христианскими государствами, если не для мирных граждан, то по крайней мере для военных, — приводить эти и тому подобные возражения было бы недоразумением. Учение можно поразить только, показав его несостоятельность в самом корне: а таким корнем для практической философии Канта является создание чисто формального нравственного закона, вовсе не решающее его содержания. Если какой-нибудь даяк считает священным долгом отрезать как можно более вражеских голов, то он при выполнении этого долга точно также повинуется категорическому императиву, повелевающему: убей врага, как истинный христианин повинуется моральному закону, выполняя заповедь: любите врагов ваших. В обоих случаях категорическим императивом является вовсе не содержание закона—убей или люби врага, а только его форма: поступай так, чтобы правило, которым руководствуется твоя воля, во всякое время могло стать принципом, определяющим всеобщее законодательство, т. е. принципом, руководящим волею всех разумных существ.
Итак, для опровержения учения Канта необходимо направить удары не на материальное содержание того или иного морального правила, —содержание крайне изменчивое и зависящее от уровня развития личности и от состояния культуры, —но на формальный закон, лежащий в основе всякой морали.
Признание действия такого закона всецело зависит от того, признаем ли мы, что закон этот сознается непосредственно каждым разумным существом или же станем отрицать это. Мы говорим, конечно, не о той или иной философской формулировке этого закона, а единственно о том, может ли каждое разумное существо непосредственно различать должное от недолжного и может ли оно, познав должное, направить к нему свою волю. Кант вынужден ответить на оба вопроса утвердительно. «Что такое долг, говорит Кант, это представляется каждому само собою». Обсуждение того, что надо сделать по нравственному закону, доступно, по словам Канта. самому обыденному и неизощренному философией рассудку. Точно также решительно он отвечает и на вопрос о возможности подчинения человека однажды осознанному долгу. «Выполнять категорическую заповедь нравственности, говорит он, это во власти каждого во всякое время». Во всем этом верно лишь то, что простые люди иногда бывают более нравственны, чем ученые и философы: все остальное представляет ряд бездоказательных утверждений. Каждый из своей индивидуальной жизни вспомнит не мало случаев, когда он находился в затруднительном положении не потому, чтобы не хотел следовать должному, а именно потому, что никак не мог разобраться в должном и недолжном. Непосредственное различение должного от недолжного дается в большинстве случаев не сознанием и обсуждением. а инстинктивным импульсом. Тот, кто бросается в огонь или в воду спасать погибающих, действует не по сознательному отношению к моральному долгу, а по импульсу, внушенному социальными привычками, развившими в нас чувство симпатии и стремление помогать ближнему. Бездоказательна и вторая предпосылка, по которой достаточно сознать долг, чтобы сказать себе: «ты должен, стало быть ты можешь». Я говорю здесь не о внешних препятствиях, так как объективное осуществление проявлений воли в эмпирическом мире сознательно устраняется Кантом, как не относящееся к делу. Речь идет о том, что Кант не менее сознательно устранил и все внутренние психические препятствия к осуществлению должного, и тем самым превратил свободную волю в такое начало, которое не имеет ничего общего с психологическим эмпирическим понятием воли. Но абсолютная метафизическая воля, допущенная Кантом в его учении о моральном законе, в силу соображений, развитых самим же Кантом в его Критике чистого разума, вовсе не может д е й с т в о в а т ь, —потому что всякое действие предполагает изменение. Отсюда очевидно, что абсолютная воля не может быть и причиной в настоящем смысле этого слова. И хотя Кант приписывает метафизической воле особую причинность по аналогии с эмпирическою причинностью, но это понятие. бездейственной причинности оказывается настолько самопротиворечивым, что вывести из него какой бы то ни было результат для человеческой деятельности совершенно невозможно. Таким образом Кант не доказал даже того, что мы можем выполнять наш долг в мире абсолюта; во всей же нашей эмпирической деятельности оказывается совершенно безразличным, существует или не существует какой бы то ни было абсолютный нравственный закон, так как он бессилен создать какие бы то ни было психологические мотивы нашего поведения, а вне этих мотивов возможно лишь, абсолютное неделание, равносильное не только физической, но и моральной смерти.
Полная оторванность этики Канта от психологии превращает моральный закон Канта в психологически бездейственную формулу, скрывающую внутреннее противоречие абсолютно бездейственной причинности. А вместе с моральным законом Канта падают и все выводы, сделанные Кантом относительно теоретически недоказуемых идей Бога, бессмертия и метафизической свободы. Действительно, если мы не сознаем непосредственно и во всякое время должное или, сознав должное, не всегда в состоянии ему следовать в эмпирическом мире, где действуют психологические мотивы,—и если сверх того мы ровно ничего не знаем относительно того, можем ли мы или не можем выполнить что бы то ни было в трансцендентном мире, где неприменима самая категория выполнения или осуществления, то из этого прямо вытекает, что в нас не существует сознания безусловного морального закона; а раз такого сознания нет, то нет возможности основывать на нем и те выводы, которые отсюда сделаны Кантом ради спасения дорогих ему идей. Недостаточность учения Канта можно было бы восполнить одним из трех путей. Во-первых, можно было бы попытаться доказать неосновательность «Критики чистого разума» и пытаться утвердить абсолют не только на основании морали, но и чисто теоретическим путем. Во-вторых, можно было бы признать поиски всякого абсолюта праздными и предписать человеческой мысли род умственной гигиены, предохраняющей его от бесплодной работы. Наконец, в-третьих, можно было бы усмотреть как в теоретическом, так и практическом абсолюте предельные понятия и идеальные цели, способные психологически мотивировать и направлять наши поступки: другими словами, можно было бы построить объяснение всякой метафизики, упразднив метафизику как философскую науку. Первый путь—т. е. путь теоретического построения абсолюта—был избран многими эпигонами Канта и по тому же пути пошел наш новый идеализм. Третий путь есть метод критического реализма, который не страшится метафизических вопросов, не избегает их, не обуздывает мысль догматическим указанием её границ, но вместе с тем самым решительным образом отвергает все притязания метафизики на высшее сверхнаучное познание, требуя критической проверки её основ и давая ей место лишь рядом с другими точками зрения; этим дано и научное объяснение её собственного происхождения и её пределов. Второй путь— безусловное пренебрежение к метафизическим вопросам, —оставлен здесь мною без внимания уже, но его крайней нецелесообразности. Опровергнуть какое-либо учение можно только преодолев его критическим путём, а никак не противопоставив одной догме—другую и менее всего—воспретив уму касаться тех пли иных вопросов, которые от такого запрета могли бы показаться еще более привлекательными.
III.
Присмотримся теперь к элементам кантианства в новом идеализме. Кантианство имеет свою критическую и свою догматическую сторону. Первая из них бессмертна, вторая давно частью устранена, частью превзойдена позднейшим развитием мысли. Важно поэтому знать, какие именно элементы учения Канта усвоены нашими идеалистами. Из всех представителей нового русского идеализма наиболее близок к пониманию Канта талантливый ученик Виндельбанда Б. Кистяковский. Этот молодой философ прежде всего—настоящий европеец. Его полемика всегда изящна и парламентски сдержана. Прочитайте, напр., его отзыв о стиле Михайловского. Указав на неточную формулировку понятий у этого писателя, Кистяковский замечает: «Литературная фраза и стилистически законченный по формальной красоте оборот всегда перевешивают у него точность и определенность выражения». Правда, та точка зрения, с которой новые идеалисты смотрят на эмпирический мир, а вместе с тем и на всех эмпириков, иногда выводит из колеи даже г. Кистяковского. Так, указав на то, что Милль «стремится обосновать индукцию, т. е. в конце концов весь процесс эмпирического познания на предположении основного единообразия в строе природы» г. Кистяковский утверждает, что Милль таким образом полагает в основу процесса познания предвзятое мнение о том, как природа устроена сама по себе и признает это допущение Милля метафизическим базисом его учения. Высказав этот взгляд и стараясь затем показать, что индуктивное объяснение единообразия строя природы вращается в ложном кругу, г. Кистяковский заканчивает словами: «Так мало продумывать основы своих философских построений мог только такой поверхностный мыслитель, каким был Милль». После такой критики мы вправе требовать от самого г. Кистяковского весьма глубокого проникновения в рассматриваемые им проблемы. Обратимся теперь к идеям г. Кистяковского.
В сборнике, составленном из трудов новых идеалистов г. Кистяковскому принадлежит статья, посвященная вопросу, который, по-видимому, еще не успел всем надоесть, хотя о нем писались десятки и сотни статей и даже целые книги, при чем объём этой литературы далеко не пропорционален её значению. Речь идёт опять о так называемой русской субъективной школе социологов. В названном сборнике об этой школе и её главном представителе Михайловском говорится в нескольких статьях; но полемика г. Кистяковского представляет наибольший интерес, как попытка анализа взглядов субъективистов, исходя из категории возможности, играющей, как показывает г. Кистяковский, господствующую роль в построениях субъективной школы. Полемику против субъективизма я считаю одной из главных заслуг нового идеализма. Поскольку вообще философия выше некритического смешения понятий, новый идеализм составляет значительный шаг вперед по сравнению с субъективизмом, как методом. Из этого, конечно, не следует, чтобы я был во всем согласен с аргументацией, посредством которой новые идеалисты сокрушают последние твердыни субъективизма. Так прежде всего для меня несомненно, что г. Кистяковский, несмотря на свои частые ссылки на Канта, изучал этого философа главным образом «по Виндельбанду» и смотрит на него сквозь призму этого идеалистического неокантианца, да еще с той разницей, что Виндельбанд всегда знаком с вопросом, о котором говорит, а этого нельзя сказать всегда о его русском ученике. Только этим объясняется поистине изумительное утверждение Кистяковского, будто у Канта возможность (в его Пролегоменах) всегда обозначает «оправдание» и будто Кант обращался крайне произвольно с термином возможность, находясь под влиянием лейбницевской терминологии! Полагаю, что кантианцу во всяком случае следовало бы иметь точное понятие о кантовской таблице категорий, которую сам Кант признавал одним из величайших усилий своего гения: и это тем более было обязательно для г. Кистяковского, что он полемизирует против субъективистов как раз с категориальной точки зрения, весьма подробно и тщательно анализируя как раз те категории, которые Кант относил к «модальности». Для того, чтобы оценить попытку г. Кистяковского, необходимо, поэтому, прежде всего напомнить о том, что было сделано по рассматриваемому вопросу Кантом. Это, между прочим, избавило бы г. Кистяковского от призрака безусловной необходимости и убедило бы его в том, что можно быть критическим идеалистом в духе Канта и тем не менее тщательно отличать научную и философскую необходимость от магометанского рока.
«Возможным» Кант называет то, что согласуется с формальными условиями опыта. Этими условиями являются, во-первых, формы чувственной интуиции, во-вторых формы рассудка, т. е. «чистые» понятия.
Последние, хотя логически предшествуют опыту, но объект их может быть найден только в опыте, и сами по себе, как формы, они совершенно пусты. Из этого прежде всего ясно, что категория возможности (как впрочем и её отрицание—категория невозможности) имеет смысл только в применении к предметам опыта. К сверхопытному миру эта категория попросту неприменима.
Если Кант, установив моральный закон долженствования и признавая его законом метафизического характера личности, тем не менее утверждает, что заповедь «ты должен» влечет за собою, как следствие: «ты можешь», то он при этом совершает скачок из сверхопытного мира в мир эмпирический и идет в разрез со своей собственной критикой. Этим лишний раз доказывается теоретическая несостоятельность и практическая бесплодность категорического императива.
Но возвратимся к «возможности», как она установлена в трансцендентальной аналитике Канта. Возможность не следует прежде всего смешивать с мыслимостью, т. е. с отсутствием противоречия в самом понятии. Логическая мыслимость есть необходимое логическое условие возможности: условие необходимое, но не достаточное. Все логически немыслимое невозможно, но не все мыслимое возможно. Треугольный квадрат немыслим: здесь противоречие в самих терминах. Если только не изменять произвольно смысла слов, то фигура не может мыслиться в одно и тоже время и с тремя н с четырьмя сторонами. Треугольный квадрат немыслим, а потому и невозможен. Но фигура, замкнутая двумя прямыми линиями, мыслима: действительно, из одного понятия прямизны невозможно вывести, что две прямые не замыкают фигуры. Чтобы убедиться в невозможности, необходима действительная или, по крайней мере, мысленная конструкция, а стало быть, необходима чувственная наглядность пространства. Если мы от возможности переходим к действительности, то здесь уже недостаточно одних формальных условий опыта, но необходимы и материальные, «действительное» согласуется с ощущением, т. е. требует чувственного восприятия. Действительная вещь должна быть нам дана в восприятии или, по крайней мере, связана с какими-либо восприятиями по эмпирическим законами. Здесь уже не может быть никакой речи о выводе из понятия о вещи самого существования этой вещи. Я могу составить понятие о субстанции, пребывающей в пространстве, но его не наполняющие, т. е. не обладающей свойством непроницаемости; но из этого вовсе еще не следует, чтобы такая субстанция где-либо существовала в действительности.
Раз дана действительность и кроме условий единичного чувственного восприятия даны общие условия всякого опыта, то вместе с действительностью мы имеем и необходимость. Таким общим условием опыта является закон причинности. Если из понятия о вещи никаким образом нельзя вывести её действительности, т. е. её существования хотя бы в единичном восприятии, то тем менее можно вывести этим путем её необходимости. Мы вообще познаем не необходимость вещей, а только необходимость их переходных состояний, поскольку эти состояния вытекают из других предыдущих состояний по закону причинной связи. Понятие необходимости относится не к статическому состоянию, а к динамическому переходу из одного состояния в другое. Все, что случается, гипотетически необходимо, т. е. может быт выведено на основании причинной связи. Этим одинаково исключается как царство слепого случая, так и царство так называемой безусловной необходимости, соответствующий слепому року. Необходимость существует постольку, поскольку существует единство нашего опыта. Природа явлений есть не что иное как единство нашего рассудка, в котором все явления принадлежат к одной цельной, неразрывной, не допускающей никаких пробелов области опыта.
Рационалистическая метафизика не раз задавалась вопросом, не представляет ли область возможного нечто высшее, более широкое и поэтому более достойное человеческого ума, словом более ценное нежели область действительности. На первый взгляд это так и есть. Возможность существовании разных призрачных миров и призрачных существ, наполняющих воображение метафизика, представляется ему столь ценною составною частью его миросозерцания, что он ставит ее гораздо выше «грубой действительности». Пренебрегая низкими истинами, метафизик стремится в область нас возвышающего обмана. Рассматривая вопрос об «обширной» области возможного по сравнению с узкой областью действительного и необходимого, Кант называет этот вопрос странным (по немецки artig: это слово употребляется часто в ироническом смысле и означает тогда странный, причудливый, даже дикий). Ведь такой вопрос в сущности равносилен следующему: существует ли несколько отдельных между собою, внутри связных и целостных областей опыта? Но рассудок дает только формальные условия опыта. Материальное содержание опыта, данное чувственными восприятиями, вовсе но подлежит его решению. Поэтому возможность, содержащая условия опыта только формально, а не материально, объемлет собою действительность. Возможное не может быть превращено, как это думают рационалисты, в действительное путем каких-либо добавочных условий: никакие добавочные условия не могут превратить формы опыта в его содержание. Если же что-либо дано по содержанию в непосредственном восприятии или по крайней мере в связи с ним, то оно уже не возможно, а действительно.
Анализ Канта показывает, таким образом, что категории возможности, действительности н необходимости ровно ничего не прибавляют к понятию, как определению самого объекта. Они выражают исключительно отношение объекта к нашей познавательной способности. Действительность содержит в себе не менее, а более, чем возможность: но этот плюс относится также и к обогащению самого понятия, а исключительно к тому, что действительная вещь, в противоположность только возможной, дана в прямой или косвенной связи с чувственным восприятием. Как п о н я т и е «возможные сто талеров» ничем не хуже действительных ста талеров, но всякий предпочтет ощупывать в своем кошельке «действительное».
Отсюда видна, выражаясь словами Канта, вся скудость результатов, достигаемых в том случае, если мы сооружаем великое царство возможности, по отношению к которому все действительное образует якобы ничтожную часть. Коренная ошибка рационализма вытекает из логического фокуса, состоящего в обращении положения: «все действительное возможно», откуда выводят: некоторое возможное действительно, а затем: многое возможное не действительно. Из этого положения, в свою очередь, заключают, что к возможному надо «прибавить» нечто, чтобы получить действительное; стало быть, возможное «больше», чем действительное. Что же следует прибавить к возможному для получения действительного? Если новую возможность, то мы не выйдем из круга возможностей. Если же надо прибавить действительное, то мы заранее берем действительность, чтобы ее потом построить. Не прийти ли поэтому к курьезному утверждению, что для превращения возможности в действительность к возможному необходимо прибавить невозможное!
Своей критикой «категорий модальности» Кант нанес смертельный удар всякому теоретическому утопизму, т. е. всякому выведению существования вещей из одних понятий, без помощи чувственного восприятия. К этой критике Канта в значительной мере примыкает Виндельбанд, с тем, однако различием, что ему не достает кантовской глубины и силы анализа. В свою очередь г. Кистяковский повторяет и популяризирует мысли Виндельбанда, дополняя их разве только рассуждениями об объективной возможности, выведенными из рассмотрения статистического метода,—рассуждениями, едва намеченными, так как автор, по примеру своих коллег, обещает дать более обстоятельную работу лишь «в будущем». Надеемся, что в этой будущей работе он обратится и к забытомѵ первоисточнику и поищет прочных оснований для своей теории у Канта. Пока мы заметим ему, что попытка доказать коренное различие между методами статистики и методами естествознания (в обширном смысле этого слова), обоснована г. Кистяковским далеко не убедительно. Ему очевидно совершенно неизвестна гениальная попытка Генриха Герца создать новые основы механики, в которых г. Кистяковский нашел бы черты определения объективной возможности, а вместе с тем усмотрел бы и известное родство с теорией вероятностей. Неизвестны ему, вероятно, и результаты, уже достигнутые в некоторых областях механики как напр., в кинетической теории газов, при помощи той же теории вероятностей.
Если оставим в стороне теорию вероятностей и обратимся к. возможности в кантовском значении этого слова, то центральным пунктом всей аргументации г. Кистяковского, с целью установить гносеологическое значение возможности, явится полемика Виндельбанда против лейбницевского рационализма, по которому все вообще действительно существующее оказывается случайным, хотя и причинно обусловленным. Случайность эту Лейбниц, по словам Виндельбанда, основывает на логической мыслимости противоположного—действительному. Ясно, что Лейбниц понимал необходимость только в безусловном и притом чисто логическом смысле и что в основу действительности он положил чисто логическую возможность.
По совершенно основательному замечанию Виндельбанда (которое, однако, но представляет для нас нечего нового после кантовской критики), истинное отношение между понятиями возможности и действительности было таким образом перевернуто рационалистами. «В то время, говорит Виндельбанд (н повторяет вслед за ним г. Кистяковский), как все, что мы называем возможностями, является лишь мыслями, которые возникают на основе существующей действительности, в этой системе действительность оказывается случайным фактом на фоне предшествующих ей возможностей».
Вооруженный этой критикой, представляющей лишь не совсем точную популяризацию критики Канта, (так как самое понятие модальности и отношения к познающему субъекту плохо намечено) г. Кистяковский приступает к анализу воззрений наших субъективных социологов и довольно успешно выполняет свою задачу, показывая, что в русской субъективной социологи «возможность» перепуталась не только с «необходимостью», но и с «желательностью» и, наконец, с тем, что признавалось за нравствевнонеобходимое, т. е. за должное. Эта сторона анализа г. Кнстяковского заслуживает полного сочувствия. Хотя и раньше указывались многими, напр. пишущим эти строки, что в субъективной социологии возможное смешивалось с необходимым, а необходимое с должным, но г. Кистяковский развил эту тему в деталях, шаг за шагом вскрывая софизмы и внутренние противоречия, лежащие в основании, — не говорю уже субъективного «метода», — но н целого ряда социологических построений субъективистов и примыкающих к ним писателей народнического лагеря. И если, тем не менее, в критике г. Кистяковского оказываются слабые места, то единственно потому, что. несмотря на все развитие деталей, он недостаточно проанализировал основную тему, и кроме того незаметно для себя ввел в свою полемику догматические элементы, пожалуй, еще более слабые, чем те, которые он старается устранить.
Учение Лейбница, как справедливо замечает цитируемый г. Кистяковским Виндельбанд, есть признание логической возможности источником всего существующего. Из разных возможностей (мыслимостей) божественная воля выбирает наилучшую. Наш лучший мир есть лучший из всех возможных (мыслимых) миров.
Фаталистический оптимизм Лейбница теснейшим образом связан с его теорией познания и метафизикой. Логическая возможность, т. е. мыслимость несовершенства, служит доказательством действительности зла. Мир не может быть, поэтому, абсолютно хорошим. Но так как Лейбниц все же признавал добро вечной и необходимой истиной, то у него между действительностью добра и наличностью зла есть коренное н ничем неизгладимое различие.
Усвоить точку зрения Лейбница на «наилучший из возможных миров» русские субъективные социологи не могли. Условия их общественной деятельности были таковы, что мало располагали к подобному оптимизму, а взгляд на добро и зло, как на чисто относительные понятия, препятствовал признанию «абсолютного добра» хотя бы только в теории. Тем не менее основные гносеологические предпосылки русских социологов, не без основания позволяют г. Кистяковскому сблизить их учение с философией Лейбница. В обоих случаях мы видим типичный рационализм, подчиняющий действительность возможности. Что это именно так, доказано г. Кистяковским путем целого ряда цитат из сочинений Михайловского, а отчасти и проф. Кареева, который в философском отношении лишь следовал по пятам Михайловского. Известно, между прочим, какую роль играла в построениях субъективистов «возможность» или «невозможность» возникновения в России капиталистического строя, при чем в угоду разным «возможностям» закрывались глаза перед очевидными фактами, а когда стало «невозможным» уклониться от их признания, то вопрос был решен очень просто—указанием на осуществление одной из «возможностей», хотя и не той, которая признавалась первоначально более (субъективно) вероятною или, точнее, «желательною». Во всех построениях субъективной школы, исторический процесс рассматривается не как протекающий по законам необходимости, а как колеблющийся между различными возможностями, из которых одни признаются «желательными», другие «нежелательными». Самую необходимость г. Михайловский постоянно истолковывает не в реальных терминах опыта, а в терминах логической возможности или невозможности н психологической желательности или нежелательности. Даже необходимость самого субъективного метода основывается на «невозможности» исключительно объективного метода и на «желательности» внесения в социологию субъективных симпатий и антипатий. Неудобство же, вытекающие из субъективных разногласий, признается неизбежным единственно на основании «невозможности» бороться со своими симпатиями и антипатиями. Облегчение этого неудобства в свою очередь признается не задачей, подлежащей научному решению, а только «желательным», да и то при определении условий «возможности осуществления» этого «желательного». Практическая борьба между различными правдами, напр., между правдой буржуа и правдой пролетария, получает при такой точке зрения совершенно ложное освещение. Антагонизм личностей и общественных групп утопает в некоторой единой правде, а цельность этой правды нарушается введением субъективного элемента, так как он служит основою неустранимых разногласий, получающих невинное наименование некоторого «неудобства».
По замечанию г. Кистяковского, к вопросу о субъективном методе непосредственно примыкает вопрос об идеале.
Различая «идеалы» от «идолов», Михайловский характеризует последние, как предметы поклонения, относительно которых, однако, твердо сознается «невозможность» достижения их величия и силы, тогда как идеал есть практически обязательное состояние, к которому человек стремится, чувствуя «возможность» его достижения. Определив идеал, как нечто возможное, субъективный социолог вынужден, конечно, допустить и всякие другие возможности, даже прямо противоречащие его идеалу. Таким образом сплошь и рядом возможное превращается в невозможное: на это уже указывал в свое время пишущий эти строки, полемизируя против г. В. В. и других народников (См. мои статьи о русских экономистах в «Научн. 06.» 1900 г. В совершенно переработанном виде они войдут в издаваемое теперь собрание моих сочинений (т. IV). При веем отличии народников от Михайловского. есть и несомненное сходство.). Кистяковский формулирует свое возражение субъективистам так: «Если то, что г. Михайловский предполагал возможным, в действительности не произошло, то у него всегда есть в запасе оправдание, что различные обстоятельства могли превратить сперва возможное в невозможное... Итак, категория возможности и невозможности вполне оказывается в данном случае тем, что она есть на самом деле, т. е. гибким орудием для оправдания и объяснения чего угодно. Являясь по самой своей сущности воплощением относительности, она весьма удобна для тех, кто отрицает все безусловное даже в нравственном мире, так как, с одной стороны, она представляет самый широкий простор при выборе путей, с другой, дает право сослаться на безысходность положения—если избранный путь не приводит к желанной цели». Этому крайнему релятивизму г. Кистяковский противопоставляет признание идеала не теоретически осуществимою возможностью того или иного состояния,—возможностью, которая, как мы видели, легко «превращается в свою собственную противоположность»,—но образцом, который постулируется нашим нравственным сознанием, не как желательное только, а как должное. С этой точки зрения Кистяковский анализирует «оценки» г. Михайловского и показывает их несостоятельность. Так напр., если мы вслед за г. Михайловским оцениваем метафизику, как ложную. призрачную науку, то уже самая эта оценка требует признания некоторого не только желательного, а обязательного идеала настоящей науки. Каждый шаг оценки, всякое признание каких бы то ни было моральных ценностей необходимо сопровождается критерием долженствования. По словам г. Кистяковского, сами субъективные социологи ощупью пользуются этим критерием, вместо того, чтобы открыто признать его.
Здесь мы приходим, наконец, к основной идее всякой нравственной оценки, к понятию д о л ж н о г о. С этим понятием мы имели уже дело в самом начале, при обсуждении кантовского категорического императива, при чем, однако, решение Канта было признано нами призрачным. Как же решают вопрос о долге новые идеалисты? Одного указания их на безусловность долга, на неприменимость к нему категории относительности, конечно, далеко еще недостаточно. Пусть г. Кистяковский говорит сколько угодно, что признание нравственного критерия относительным «равносильно полной безпринципности». Но мы знаем, что существуют системы, открыто отвергающие понятие долга и тем не менее создающие свои нравственные принципы. Здесь не поможет никакая декламация: необходим строгий философский анализ.
У г. Кистяковского,— быть может в зависимости от его специальной темы,—мы видим только слабые намеки на подобный анализ. Они рассеяны также и в другой его работе «Категория необходимости и справедливости при исследовании социальных явлений». (Жизнь, май и июнь 1900). Итог всех его замечаний сводится к тому, уже подчеркнутому нами выводу, что, выбросив из социологии критерии возможности и желательности, введенные русскими субъективистами, необходимо противопоставить им принципы необходимости и долженствования. Каково отношение между этими двумя принципами? По г. Кистяковскому они не противоречат друг другу «так как долженствование вмещает в себе необходимость и возвышается над нею“. Познание необходимо совершающегося, по мнению г. Кистяковского, дает нам познание материала и границ, в которых мы должны исполнить наш долг. Когда речь идет об идеале, мы вовсе не задаемся вопросом о возможности его осуществления: мы добиваемся осуществления потому, что этого «требует, повелительно требует от нас сознанный нами долг».
Есть что-то привлекательное в этом героизме долга, не считающегося ни с какими условиями возможности осуществления. Мы уже видели эту мысль, только иначе выраженную, у Канта. Кант требовал от нас осуществления нравственного закона совершенно независимо от эмпирических условий его осуществления. Кант говорит нам: «ты должен, стало быть ты можешь», так что нравственная возможность уже дана в самом велении долга.
Это кантовское решение, однако, не удовлетворяет «новых идеалистов». Если у г. Кистяковского недовольство выражено лишь смутно, то оно вполне определенно сказывается в статье его коллеги, г. Новгородцева. Этого и следовало ожидать. Из всех новых идеалистов г. Кистяковский менее всего склонен следовать своим метафизическим потребностям, и на ряду с метафизическим решением вопроса о должном н необходимом намечает некоторые зародыши критико реалистического решения. Но г. Новгородцев высказывается в аналогичном случае с полной ясностью. «Принципы нравственного долженствования и причинной необходимости, говорит г. Ннжегородцев, должны быть сближены, поставлены в связь... Философия Канта, впервые с полною ясностью проведшая грань между бытием и долженствованием, вместе с тем установила между этими областями безысходный и безнадёжный дуализм. Нравственная идея оказалась возвышенной, но недосягаемой целью стремления. Задача нашего времени, как и эпохи непосредственных преемников Канта, состоит в том, чтобы понять связь этих двух областей и их конечную гармонию. Эта задача выводит нас за границы как положительной науки, так и моральной философии. Мы вступаем здесь в область метафизики. В высшем метафизическом синтезе, в предположении конечной объективной цели, начала бытия и долженствования сочетаются высшей связью. Причинная необходимость, естественный ход событий могут противоречить и противодействовать нравственному закону, но только в пределах ограниченного опыта. Конечное торжество принадлежит высшей гармонии».
Эта цитата показывает, что в лице г. Нижегородцева мы имеем дело с мыслителем гораздо более наивным, чем г. Кистяковский, несмотря на то, что г. Нижегородцев, по-видимому, внимательно изучал Канта и даже написал целую книгу, в которой речь идет главным образом о Канте и о Гегеле. Г-н Кистяковский ограничивается указанием на то, что необходимость не противоречит долженствованию: г. Нижегородцев, наоборот, указывает на то, что причинная необходимость «может» противоречить нравственному закону в пределах ограниченного опыта (т. е., следует полагать, в нашем эмпирическом мире) и утешает нас ссылкой на конечную гармонию, где лев ляжет рядом с козлищем. Кистяковский признает, что долженствование вмещает в себе необходимость и возвышается над нею, потому что необходимое указывает человеку лишь на материал и границы его деятельности, при чем долг остается все же независимым от эмпирического осуществления или неосуществления наших стремлений. Нижегородцев сразу возносит нас с земли на метафизическое небо. Советуя нам не смущаться никакими неудачами и разочарованиями, он усматривает в сознании нравственного закона верный путь к освобождению «от призрачной силы преходящих явлений и к радостному признанию абсолютных начал».
Прежде чем обратиться к «метафизике» г. Нижегородцева, мы должны сказать несколько слов по поводу его упрека Канту в том, что, установив грань между бытием и долженствованием, грань, подчёркиваемую п всеми новыми идеалистами, Кант впал в «безысходный и безнадежный дуализм», который у самого г. Нижегородцева устраняется посредством путешествия в область абсолюта. Не сделал ли Кант по крайней мере попытки устранения своего дуализма, —попытки, которая, хотя и не увенчалась удачей, но навсегда послужит уроком для всех будущих метафизиков, так как даже заблуждения и ошибки великого ума всегда бывают поучительны?
В своей статье «Необходимость и свобода» («Научное Обозрение» 1900 г. Апрель), при разборе знаменитой третьей антиномии Канта, я уже коснулся интересующего нас вопроса н потому, отсылая туда относительно подробностей, ограничусь здесь самым необходимым.
Так как следование моральному закону осуществляется, по Канту, при посредстве свободы, то вопрос о свободе и необходимости сам собою приводит к сопоставлению естественной необходимости и морального долженствования. Последнее играет для свободы ту же роль, какая принадлежит закону причинности в явлениях природы. Отвергая всякую психологическую мотивацию долженствования, Кант признает, что, по отношению ко всем поступкам, подлежащим нравственной оценке, разум предполагает себя в отношении причинности, так как иначе он никогда не мог бы ожидать от своих идей никакого действия в опыте. Этим искусственным путем сравнения причинности с quasi причинностью свободы Кант старается устранить отмеченную уже нами бездейственность категорического императива. Но этот обходный путь не решает вопроса, каким образом тому или иному умопостигаемому характеру соответствует именно тот или иной эмпирический характер поведения? Не решается и вопрос, каким образом свобода, не имеющая никакого отношения к формам чувственности, а следовательно и к форме времени, может в определённый момент времени начать собою чисто причинный ряд событий? Одним словом, не решен коренной вопрос о возможности действования в эмпирическом мире таким образом, чтобы моральный закон нашел здесь свое осуществление. То стремительное решение вопроса, к которому прибегает г. Нижегородцев, конечно, сразу устраняет все эти трудности—по той простой причине, что этот автор их совсем не сознает. Признав догматически абсолютное начало, в котором должное сливается с сущим, можно смотреть с достаточным пренебрежением на земные низины, где такого слияния нет и где сплошь и рядом существует вовсе не «должное», а всякая мерзость. Пессимистический взгляд Канта на эмпирическую действительность, господствующий в последних произведениях этого великого мыслителя, заменяется у наших идеалистов «радостным сознанием» будущих благ. Получается гармония должного с сущим, нисколько не похуже предустановленной гармонии Лейбница...
IV.
Так как у г. Новгородцева нет даже намека на какую-либо строгую философскую систему и учение о должном втискивается в метафизические рамки только по причине неудержимого желания автора заявить себя метафизиком, то я вправе рассматривать далее воззрения г. Новгородцева таким образом, как будто бы никакой метафизической потребности у нас обоих не ощущалось. И мы увидим, что при таком рассмотрении в воззрениях г. Новгородцева окажется некоторое здоровое зерно, которое могло бы пустить сильные ростки, если бы этот автор продумал до конца реальные основы своего собственного миросозерцания.
Как юрист, г. Новгородцев исходит из критики разных юридических школ и в особенности полемизирует с историческою школою, которой противопоставляет необходимость «возрождения естественного права». Мы, однако, оставим здесь в стороне все специально юридические вопросы, ограничиваясь замечанием, что для историков философии давно уже не секрет, что естественное право, как его понимали философы XVIII века, всегда выражало протест идеальных нравственных стремлений против исторически возникшего действующего права. Не новость и то обстоятельство, что идеалы людей изменчивы, и что поэтому не может существовать естественного права с неизменным содержанием. Проблема начинается лишь там, где это изменчивое содержание идеалов пытаются так или иначе согласовать с предполагаемой неизменностью нравственного закона. Кант решил этот вопрос таким образом, что исключил из нравственного закона всякое содержание, сделав этот закон чисто формальным и, таким образом, осудив его на бесплодие.
Как же поступает в данном случае г. Новгородцев? Вполне признавая уместность изучения права, как исторического и общественного явления, г. Новгородцев признает историческую точку зрения совершенно недостаточной и не устанавливающей как раз самого главного—сущности права. Формула философского изучения права, по мнению г. Новгородцева, состоит в том, что право должно рассматриваться как явление и закон личной жизни, как «внутренняя абсолютная ценность».
Мы встречаем здесь в высшей степени важное понятие ценности, играющее огромную роль в терминологии и в построениях новых идеалистов. Исследованию этого понятия мы посвятим далее особое место, пока же примем утверждение г. Новгородцева просто на веру и кроме того усвоим на время его морально юридический «абсолютизм», т. е. признаем, что право, как и нравственный закон, представляет, действительно, абсолютное начало. Первый представляющийся нам вопрос состоит в том, не содержит ли определение г. Новгородцева какого-либо внутреннего противоречия, так как в нем одновременно содержатся и требования индивидуализма— «право, как закон личной жизни» и постулат универсализма— «абсолютная ценность», стало быть и независимость от изменчивых индивидуальных идеалов.
Отстаивая этический индивидуализм, г. Новгородцев утверждает, что определения морали получают свой смысл, свою реальность, только как индивидуальные переживания личности. На общественный организм он смотрит с господствующей в русской литературе ультраноминалистической точки зрения, доходящей до того, что в «обществе» усматривается чистое отвлечение, под которым подразумевается простая совокупность людей. Подобно всем номиналистам, г. Новгородцев не понимает различия между совокупностью и системой и не знает того, что общество может и не быть «организмом», и тем не менее обладать реальностью, как система своеобразных реальных отношений между индивидуумами. Если строго придерживаться точки зрения номиналистов, то придется допустить, что мы с г. Новгородцевым составляем «общество» вместе с жителями центральной Африки или, пожалуй, даже с жителями Марса. совершенно независимо от каких-либо отношений к этим существам, так как отвлеченно, т. е. с чисто логической точки зрения, мы все таки образуем с ними некоторую количественную «совокупность». Впрочем, определив общество, как чисто номинальную совокупность, г. Новгородцев не выдерживает этой точки зрения. Он вскоре признает вслед за Зиммелем вполне возможным определить самую личность как результат общественных отношений или, выражаясь несколько искусственными терминами Зиммеля, как точку скрещивания разных социальных воздействий. Допуская эту точку зрения, г. Новгородцев признает ее, однако, недостаточной: «Социологическое определение личности, говорит он, не есть единственно возможное». «Другое возможное или даже необходимое определение дается личности со стороны этики и метафизики». Мы уже привели доводы, по которым «метафизика» г. Новгородцева мало нас интересует. Иное дело этика. Этическое определение личности, без сомнения, при известной точке зрения на социологию и на этику, совершенно отличается от социологического определения. Здесь снова прежде всего является вопрос: о какой этике идет речь? О той ли, которую признают относительною и изменчивою, как продукт данного социального развития, пли же о той, которой, хотя бы и помимо всякой метафизической аргументации, придают характер неизменности и безусловности? Для г. Новгородцева нет никаких сомнений, что нравственный закон безусловен. Доказательств этого взгляда у него, однако, очень мало и некоторые из них поразительно слабы. Так, напр., одним из доводов является утверждение, что безусловность нравственного закона не опровергается постепенным уяснением его по мере развития культуры, так как, будь иначе, «пришлось бы отрицать и безусловность научной истины». Как будто не существует попыток—и очень серьезных, — отрицать безусловность научных «законов!» В своей защите безусловности г. Новгородцев особенно несчастлив, когда ссылается на статью г. Кистяковского, напечатанную в «Жизни» (1900 г.). Статья эта воспроизводит доводы, высказанные г. Кистяковским в петербургском философском обществе. И вот, когда я, в роли оппонента, предложил г. Кистяковскому назвать мне хотя бы один научный закон, имеющий «безусловное» значение и указал ему на то, что даже закон Ньютона не безусловен, а обусловлен эмпирическим фактом эллиптичности орбит, —когда я указал далее референту, что этот закон не может быть выведен чисто логическим путем без всяких эмпирических данных (логически вполне «мыслимо» напр. притяжение, прямо пропорциональное расстояниям), то г. Кистяковский не нашелся, что возразить. Некоторые выражения г. Кистяковского, сочувственно цитируемые также г. Новгородцевым, показывают даже, что обоим этим авторам не вполне чужда устраненная Кантом вполне наивная точка зрения на научные законы, как на нечто существующее само по себе, независимо от человеческого понимания природы. Авторы эти по-видимому думают, что закон Ньютона существовал бы не только без Ньютона, но и без всяких разумных существ, способных когда-либо познать его. Оказывается, таким образом, что наши «идеалисты» иногда не чужды заблуждений наивного реализма. В такой же реализм, но только на почве этики, они впадают, утверждая, что нравственный закон существовал сам по себе даже тогда когда— привожу подлинные слова г. Кистяковского—«наша солнечная система являлась хаотической системой атомов“. К т о ж е был тогда нравственным, и не атомы ли выполняли свой долг, г. Кистяковский?
С кантовской точки зрения, необходимость такого нелепого признания нравственности вне нравственных существ сразу устраняется тем, что для Канта действительно нет никакой необходимости сопоставлять нравственный закон с каким бы то ни было эмпирическим состоянием человека или всей солнечной системы, так как с точки зрения Канта форма времени попросту неприменима к умопостигаемому характеру личности (нравственная личность, по Канту, бессмертна и к ней вопрос «когда» не приложим). И хотя нравственный закон существует никак не сам по себе, а только в человеческом разуме, и стало быть требует прежде всего существования разумных нравственных существ, но вопрос о генезисе разума вовсе не обязателен для Канта, ибо умопостигаемая личность вовсе не возникает, и не умирает. Насколько Кант глубок, настолько наши новые идеалисты скользят только по поверхности кантовского учения. Новгородцев, конечно, знает, что нравственный закон Канта имеет чисто формальный характер и что согласно этому формальном характеру закона Кант должен был отказаться от попытки определить безусловное нравственное содержание этого закона. По словам г. Новгородцева, «идея личного или социального идеала, неизменного в своих определениях, этим самым подрывалась в корне. Вечным остается лишь требование относительного (?) согласия разума с собою и верности человека своей разумно нравственной природе. Выражаясь современным языком, формальный нравственный принцип есть признание идеи вечного развития и совершенствования... Формальный принцип морали устраняет одинаково и этический консерватизм и этическую утопию земного совершенства». Отсюда г. Новгородцев вполне последовательно выводит и идею «естественного права с изменяющемся содержанием». Но от него совершенно ускользает трудность, которую превосходно сознавал Кант и с которою этот философ боролся всеми силами своего гения: трудность, состоящую в том, каким образом чисто формальный, лишенный конкретного содержания, закон определяет именно т а к о е, а не иное эмпирическое правило поведения— или, выражая вопрос в еще более общих терминах, каким образом данный умопостигаемый характер определяет тот, а не иной эмпирический характер?
Кант не мог— по собственному признанию г. Новгородцева —выйти из созданного им же самим дуалистического противоречия между миром феноменов и миром ноуменов, а потому не мог решить н подчёркнутой здесь нравственной проблемы. Его моральный закон остался по необходимости бездейственным. Нижегородцев, правда, достигает того, что превращает кантовский формализм в вполне реальное оружие критики существующего. Но ему это удается лишь при помощи чисто эклектического соединения кантовской критики с совершенно отличающимися и от неё, и между собою, принципами гегелевской диалектики и той реалистической критики, которая была осуществлена в учении Маркса. Несмотря на этот эклектизм, именно в этой части воззрений г. Новгородцева мы видим самую ценную их сторону, так как из них можно, в конце концов, хотя и с трудом, вышелушить ядро здорового реализма. С г. Новгородцевым случилось тоже, что мы уже видели относительно г. Бердяева: при малейшем соприкосновении с конкретными идеалами он вновь почуял запах земли. С особенным удовольствием мы, поэтому, цитируем некоторые места из статьи г. Новгородцева, позволяющие надеяться, что этот издающий надежды юрист рано или поздно освободится от миражей, застилающих теперь его поле зрения.
Нравственная идея, говорит г. Нижегородцев, требует направить наши стремления на возможно высшую конкретную цель. Будучи по существу критическим н формальным (слово формальный мы бы здесь отбросили без всякого ущерба для г. Новгородцева) моральный принцип нисколько не устраняет возможности своего сочетания с временными конкретными целями. (Мы бы сказали: именно потому, что моральный принцип есть прежде всего принцип критики существующего, он необходимо должен сочетаться с временными конкретными целями).
С этим критическим духом морального принципа связано и то справедливое замечание г. Новгородцева, что самые возвышенные идеальные построения нередко бывали сильны именно своим отрицанием и слабы своими положительными построениями. Мы могли бы сказать о большинстве нравственных гениев словами поэта:
Он проповедовал любовь
Могучим словом отрицанья.
И г. Новгородцев совершенно правильно подчёркивает «созидательную силу этой критики», die schaffende Lust der Zerstorung/.
Итак—конкретные цели и критика настоящего во нмя лучшего будущего, вот к чему приходит г. Новгородцев! Но на почве безусловного морального принципа конкретных целей нет и быть не может. В абсодютном нет, ведь, ни настоящего, ни будущего. Это сознает и наш автор и тем не менее он снова подчеркивает значение абсолютной этики и «отвлеченных определений». Известная доля отвлечения конечно необходима, иначе мы запутались бы в мелочной казуистике и утратили бы всякие принципы. Но г. Новгородцев очевидно предполагает здесь ту высшую меру отвлечения, которая проявляется в создании метафизических идей. Ведь ссылается же он на Виндельбанда для того, чтобы сказать, что результаты отвлеченного анализа имеют одинаковое значение и «в конце дней и в их начале!» Я, правда, не берусь судить ни о начале дней, ни об их конце. Думаю, однако, что относительное постоянство нравственного закона объясняется попросту относительным постоянством человеческой психологии, да еще тем, что вопреки предрассудку метафизиков, основы нравственного закона заложены в животном мире. Точные наблюдатели сообщили нам не мало фактов, несомненно доказывающих, что зачатки нравственности существуют у собак и у других высших животных. Как же можно удивляться тому, что основное различение должного от недолжного свойственно всем человеческим расам и племенам, как бы они ни были грубы и как бы различны ни были проявления и применения общего закона. Если общечеловеческому придать название абсолютного, то, без сомнения, нравственный закон, состоящий в заповеди «делай должное и не делай недолжного» — абсолютен. Но при таком определении весь метафизический туман исчезает.
Высокомерное пренебрежение, выказываемое новыми идеалистами по отношению к естествознанию и в особенности их поверхностные отзывы о дарвинизме, заставили их проглядеть все то, что было сделано Дарвином для реалистического обоснования морального закона. А между тем никто иной, как Дарвин, нанес сильнейший удар гедонистическим и эвдемонистическим воззрениям на нравственность. На это я указал уже в своем разборе нравственного учения Владимира Соловьёва (Научн. Обозр. 1898 г.), при чем старался показать, насколько абсолютная (в смысле общечеловеческой) мораль Дарвина выше половинчатой абсолютной морали Соловьева. В то время, как Дарвин, исходя из чисто реальиых начал,—из общественных инстинктов, а также из развития разума н в частности способности к отвлечению,—приходит к отвержению гедонизма и даже утилитаризма и к признанию морального героизма. Владимир Соловьев, исходя из метафизического абсолюта, на деле приходит к ряду компромиссов с действительностью, доходя в своих уступках до того, что некоторые идеалы его удивительно сходятся с идеалами мещанства. Укажу на его курьезные рассуждения об умеренном пьянстве, яко бы проясняющим дух мудреца, или, если избрать более серьёзные примеры, укажу на оправдание войны и на отношение Соловьева к рабочему вопросу. И все это нельзя объяснить простой непоследовательностью. При бесконечном расстоянии, отделяющем конкретные цели от метафизической безусловности, каждый метафизик легко подвергается опасности компромисса. Иное дело, если «абсолютный» закон окажется попросту законом общечеловеческим. В таком случае не признавать его хотя бы в глубине совести будут только душевно больные или же в конец испорченные люди. И если найдется философ, который скажет «мне в с е дозволено» то его можно будет пристыдить указанием на то, что его теория опускает человека до уровня, над которым возвысились уже не только бушмены, но и обезьяны и собаки.
Естественное право, о котором теперь так много пишут юристы, есть ничто иное, как сознание, придающее человеку значение юридической личности в смысле субъекта прав, сознание того, что вообще люди обладают правамн, без всяких дальнейших конкретных определений содержания тех или иных прав личности. Ошибка римских юристов состояла в том, что, сравнивая правовые воззрения разных народов и присматриваясь даже к жизни высших животных, они пытались найти некоторые к о н к р е т н ы я правовые нормы, якобы общие всем людям и даже, пожалуй, всему животному миру. Много смеялись над определением естественного права, как такого, которому природа научила всех животных. Но если бы Ульпиан просто сказал, что уже в животном мире есть зачатки правосознания, указав напр. на собак, то в его пользу высказались бы многие выдающиеся наблюдатели. Само собою разумеется, что нет ни о д н о г о человеческого племени, у которого не было бы сознания, что люди обладают известными правами, хотя содержание этих прав так различно, как различны нравы и обычаи. Прежде всего это, конечно, неотчуждаемые права личности. Но самое понятие о личности, самая личность есть исторический продукт, и далеко не всегда и везде личность признавалась во всех людях. Поэтому область применения естественного права постоянно возрастает по мере роста самосознания личности. Естественное право есть, стало быть, продукт медленного исторического развития—точка зрения, которую отстаивал еще недавно сам г. Новгородцев. В вышедшем в 1898 г. томе словаря Брокгауза, при объяснении слова «Право естественное» он еще не ѵспел принять метафизической веры и писал: «Историческая точка зрения совершенно основательно отвергла прежние учения о происхождении права естественного (в числе этих прежних теорий, добавим мы, были и такие, которые выводили естественное право из метафизических и теологических начал, т. е. стояли на нынешней точке зрения г. Новгородцева, близкой к взглядам средневековых демократических теологов). Естественное право само создается из закономерного процесса истории». Правда г. Новгородцев говорил и прежде то, что повторяет теперь, а именно, что центр тяжести естественноправового учения заключается не в генезисе естественного права, а в его оценке. Тут необходимо пояснение. Генезис естественного права не важен для нас до тех пор, пока речь идет о деталях человеческой психологии и о различных исторических применениях идеи естественного нрава. Но конечный вывод генетического рассмотрения вопроса, состоящий в том, что естественное право есть ничто иное как признание в человеке достоинства юридической личности (при чем в более грубых обществах это признание может и не распространяться на всех членов данного племени или народа), этот конечный вывод представляет громадное значение, так как только он позволяет установить соотношение между правомерным и нравственно должным.
V.
На этом я мог бы расстаться с нашими идеалистами. Но для лучшего уяснения принципов, из которых я исходил в своей критике их построений, считаю необходимым дополнить сказанное указанием на тот путь, который, по моему мнению, следует избрать при анализе понятий о нравственно должном и естественно необходимом для того, чтобы в одинаковой мере освободиться п от субъективного произвола русских социологов, и от метафизического абсолютизма новых идеалистов. Некоторые основания для правильного анализа уже положены, по моему мнению, работами немецких писателей, особенно Штаммлера и Риккерта: но и эти авторы остановились на полпути, а потому в конце концов пришли к несостоятельным выводам. Так Штаммлер в своей критике экономического материализма сделал неудачную попытку разграничить закономерность от причинности, с целью указать на отличие моральной закономерности от той, которая господствует в естественной причинной связи событий. Отличие здесь есть, но оно ложно понимается Штаммлером. Его попытка разобрана мною в другом месте (см. мою Философию действительности т. II) и к ней я возвращаться не стану. Но о новейшем развитии взглядов Риккерта необходимо сказать несколько слов, так как этот автор, на мой взгляд, ближе всех подошёл к правильному разрешению проблемы.
Труд Риккерта, имеющий целью обозначение границ естественнонаучного метода и разграничение его от метода наук, которые Риккерт называет иногда общим именем исторических, иногда же именем культуроведения,—этот труд, при всех его недостатках, интересен уже в том отношении, что избегает обычного грубого противопоставления естественных наук так назыв. «наукам о духе». Психология для Риккерта—такая же естественная наука (по своему методу), как и биология. Риккерт пытался противопоставить друг другу лишь два класса наук: одни, по его мнению, изучают з а к о н ы явлений, тогда как предметом других служат индивидуальные вещи или явления. В этом первоначальном виде взгляды Риккерта были доступны серьезным возражениям, которые я выставил в 1897 г., при появлении первой части его труда. Наши идеалисты усвоили эти взгляды Риккерта, не продумав их самостоятельно; они обыкновенно ограничиваются простой ссылкой на этого писателя и на его учителя Виндельбанда, считая вопрос окончательно решенным в пользу резкой противоположности между науками номотетическими (изучающими законы) и идиографическпми (изучающими единичные явления). Так как я, по моему мнению, достаточно убедительно доказал несостоятельность этой классификации, то с гораздо большим правом могу отослать к моей статье о Риккерте. (Научное Обозрение, 1897 г.).
В новейшее время Риккерт, однако, несколько смягчил свои взгляды на противоположность между двумя указанными классамн наук. Уступки его настолько значительны, что приводят к полному крушению прежней классификации, хотя он все же на ней настаивает В своем реферате «Естествоведение и культуроведение» (недавно переведенном на русский —язык), Риккерт говорит о «методологически естественнонаучных элементах в культуроведении» и между прочим признает даже то, что было выставлено мною, как один из главных доводов против его классификации, а именно относительность самых понятий об индивидуальном и общем, Немец есть, напр., индивидуум по отношению к человеку вообще, но «общее» по отношению к пруссаку и баварцу, которые имеют свои индивидуальные особенности. В свою очередь пруссак есть общее по отношению к Бисмарку и Фридриху Великому. Риккерт вынужден далее признать, что, хотя он считает культуроведение учением об инднвндуальиом, но нет такой наѵки о культуре, которая не оперировала бы со множеством групповых понятий, порою даже выступающих на первый плаи. И наконец, что всего важио для нашей цели, Риккерт прямо признает, что об и н д н в и д у а л ь н о м, как таковом, не может быть, собственно говоря, никакой науки. Чтобы найти себе место в науке, индивидуальное должно обладать также общим значением. Этим, конечно, устраняются мои прежние возражения, но вместе с тем устраняется и вся теория Реккерта в её первоначальном виде. Теперь Риккерт пытается вложить в свою классификацию новый, гораздо более глубокий смысл. Противоположность культуроведения и естествоведения он усматривает в том, что в «истории» обобщающим началом является не закон природы, а понятие о культурной ценности, которая развивается и осуществляется только в индивидуальном.
Можно подумать, что таким образом мы возвращаемся к пресловутой «субъективной социологии». Но из разъяснений Риккерта очевидно, что именно ему, как нельзя более, чужда точка зрения субъективистов.
В настоящее время, говорит он, почти все убеждены, что точка зрения ценности несоединима с научностью, именно потому, что ее нельзя будто бы обосновать объективно. «Понятием культурной ценности, пишет Риккерт, как руководящим принципом выбора существенного, в действительности—так могут подумать— вводится в науки о культуре элемент произвола, и если далее совокупность наук о культуре... зависит от системы культурных ценностей, то не значит ли это основывать сокровеннейшую сущность на комплексе индивидуальных желаний и мнений»?.
Против такого понимания его культурно исторического метода Риккерт восстаёт самым энергичным образом. Работа с необоснованными ценностями, говорит он, противоречила бы всякой научности. Лишь объективные ценности могут послужить основанием научной системы. Но в объективные ценности, в конце концов, по его словам, верим мы все, даже если под влиянием научной мысли внушаем себе противное, потому что «без идеала выше себя человек (по выражению Риля, цитируемого Риккертом) не может ходить прямо в духовном смысле слова». «Ценности же, из которых этот идеал состоит (по словам того же Риля) открываются и подобно звездам на небе вместе с прогрессом культуры постепенно вступают в кругозор человека».
Я должен отметить еще одно важное замечание Риккерта, относящееся к зависимости самого естествознания от проблемы культурных ценностей. Естествознание, говорит Риккерт, само ведь есть также продукт культуры и истории, а эту историю нельзя рассматривать иначе, как отделяя существенное от несущественного, т. е. производя известные оценки. Не только само естествознание есть продукт культурного человечества, но и «природа» есть в логическом смысле ни что иное как культурная ценность общеобязательное, т. е. объективно ценное понимание действительности человеческим умом.
Здесь Риккерт стоит на совершенно правильной почве, —единственной, которая, по нашему мнению, может дать основание не только для различения «оценки» от «объяснения», но и для подчинения всего вообще познания понятию ценности. Ахиллесова пята Риккерта в том, что самое понятие объективной ценности обосновано им очень слабо. В одном из первых своих трудов, озаглавленном «предмет познания», где Риккерт блестяще опровергает всякий метафизический реализм, он, в конце концов, сам впадает в такой реализм, как раз там, где пытается установить понятие объективной ценности.
Решение вопроса лежит совсем в иной области. Объективно ценное есть лишь один из видов «жизнесохраняющего». — Но жизнь есть деятельность и чем выше жизнь, тем сознательнее эта деятельность.
Сознательный труд, разумная активность, стремящаяся к достижению определенных целей—такова основа ценности, а вместе с тем и объективной оценки. В философии, как и в экономической науке, несмотря на все попытки субъективистов, единственной прочно обоснованной является трудовая теория ценности, которую философ конечно должен понимать в более широком смысле, чем экономист, никак не ограничивая труд производством материальных благ, но подразумевая под этим всякую сознательно целесообразную деятельность. Этим указана и роль, которую играет в истории и во всех гуманитарных науках телеологическая точка зрения. Этическая оценка, учение о нравственно должном, есть лишь один из частных видов—разумеется самый важный—такой телеологии. В основе её лежит понятие о нравственном достоинстве личности: но самая личность не есть что-либо данное свыше; она вырабатывается в человеке, она сама есть результат упорного труда, направленного человеком и на внешний мир, и на самого себя.
С этой оценивающей точки зрения следует пересмотреть и знаменитый вопрос о свободе и необходимости. Наука о природе действительно подчинена телеологической оценке, в том смысле, что сама «природа» с её «законами» есть результат целесообразного умственного труда, разумной активности человека, постигающего природу. Конечной инстанцией для проверки всякой научной теории является её целесообразное применение к объяснению явлений и к практике. И открытие законов, и проверка требуют целесообразных вопросов, предъявляемых природе. Поэтому, в конце концов, всякая естественная необходимость имеет своей предпосылкой целесообразную активность, а именно искание закономерной связи явлений. В основе всего познания природы лежит деятельность людей, относящихся к природе не пассивно, приспособляющих явления к своим целям. Но точно также и основой идеи «должного» служат подвиг и вечное искание правды.Im Anflag war die That. (В начале было дело –ред. 2024 )
М. Филиппов.
Научное Обозрение, №4, апрель 1903 г.