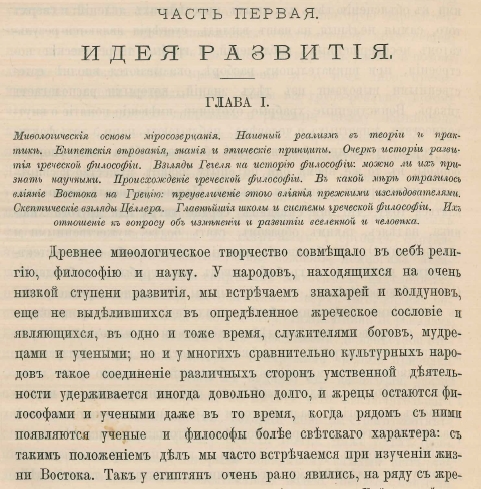
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
Мифологические основы миросозерцания. Наивный реализм в теории и практике. Египетские верования, знания и этические принципы. Очерк истории развития греческой философии. Взгляды Гегеля на историю философии: можно ли их признать научными. Происхождение греческой философии. В какой мере отразилось влияние Востока на Грецию: преувеличение этого влияния прежними исследователями. Скептические взгляды Целлера. Главнейшие школы и системы греческой философии. Их отношение к вопросу об изменении и развитии вселенной и человека.
Древнее идеологическое творчество совмещало в себе религию, философию и науку. У народов, находящихся на очень низкой ступени развития, мы встречаем знахарей и колдунов, еще не выделившихся в определенное жреческое сословие и являющихся, в одно и тоже время, служителями богов, мудрецами и учеными; но и у многих сравнительно культурных народов такое соединение различных сторон умственной деятельности удерживается иногда довольно долго, и жрецы остаются философами и учеными даже в то время, когда рядом с ними появляются ученые и философы более светского характера: с такими положением дел мы часто встречаемся при изучении жизни Востока. Так у египтян очень рано явились, на ряду с жрецами, врачи, имевшие даже разные специальности. Всем известна формула Огюста Конта, по которой теологический фазис развития предшествует метафизике и положительной науке. Не следует, однако, забывать, что эта формула далеко не выражает многих существенных черт развития человеческой мысли. Прежде всего, было бы ошибкой принять, что намеченные Контом фазисы, действительно, строго соответствуют каким-либо историческими эпохами. Если под теологическими фазисом подразумевать такое состояние мысли, когда все явления объяснялись сверхъестественными причинами, то можно смело сказать, что в чистом виде такой фазис никогда не существовали. Даже самые грубые дикари приобретают известный запас практических сведений, применяемых ими к объяснению тех или иных простейших явлений; и сверх того, самые нелепые, на наши взгляд, суеверия являются результатами несовершенных наблюдений, и грубые теоретические построения, при внимательном разборе, оказываются вполне естественными выводами из тех знаний, которыми располагает дикарь. Воинственные храбрые охотники, имеющие понятие о внутренностях животных и человека, наблюдают, например, тот факт, что сердце усиленно бьется после быстрого бега или упорной борьбы; в то же время они по опыту знают мужество и свирепость некоторых хищных зверей. Можно ли после этого удивляться тому, что они съедают сердце тигра или другого хищника, надеясь, такими образом, стать более мужественными и свирепыми? Это не объяснение явления какими-либо сверхъестественными началами, а грубый вывод из грубых наблюдений. Само собою разумеется, что такие выводы постоянно переплетаются с суевериями, имеющими более отдаленное опытное происхождение, т. е. приводящими от действительности к иллюзии и вынуждающими некультурная человека блуждать в мире призраков, вроде двойников, мертвецов, оборотней и всякая рода демонов. Однако, не следует забывать, что, одновременно и параллельно с мифологией, развивается и грубое опытное знание вполне реалистическая характера: несомненно, что даже у наименее культурных народов разные знахари и колдуны порою обладают, на ряду с нелепейшими заговорами и средствами, также и действительными эмпирическими познанием свойств целебных трав н другими подобными сведениями. С другой стороны, уже у наименее цивилизованных народов выделяются отдельный лица, большею частью старики, воплощающие в себе житейскую мудрость и нравственный понятия. Таким образом, на ряду с более или менее развитой мифологией, возникают и первобытные знания, и правила нравственного поведения, хотя освящаемые волею богов, но слишком очевидно вытекающие из чисто житейских потребностей — и поэтому или совершенно чуждые всякой сверхъестественности или пользующиеся чудесными элементом, лишь как побочною примесью. Вообще, понятие о сверхъестественном вовсе не так присуще неразвитому уму, как иногда утверждают. Понятие это могло получить некоторую определенность, лишь как противоположность естественному ходу вещей; но этот последний совсем не сознается грубым умом, а потому дикарь не может иметь представления и о чем либо, превышающем законы природы. Для дикаря все грубо реально, потому что он и не задается вопросом о различии между обыкновенными и необыкновенными, реальным и призрачными, но непосредственно наблюдает, насколько оказывается способным. Даже несомненные мифологические образы у наименее развитых племени далеко не так фантастичны, как у более культурных народов, вроде древних индусов. Вместо причудливых форм индийской мифологии, мы встречаем у грубых охотничьих и пастушеских племен лишь божков, немногими отличающихся от богатырей или свирепых животных, наделенных некоторыми человеческими способностями. Сверх того, видим не определенные представления о могуществе стихий. Наивный реализм древнейшей мифологии может быть прослежен до известной степени и у тех народов, которые обнаружили первые признаки философского мышления. Здесь мы видим, что философия, тесно сливаясь с религией и наукой, не имеет того исключительного характера сверхъестественности, который мог бы строго соответствовать теологическому фазису Огюста Конта. Даже у тех древних народов Востока, у которых по-видимому каждый шаг человека был определен божественною волею, первые попытки философского умозрения представляют не отвлеченные размышления о сущности и атрибутах божества, но наивную космогонию и не менее наивную этику, порою отмеченную печатью здравого реализма. Чуть ли не древнейшей книгой, известной в наше время историкам и археологам, должен считаться один египетский папирус, хотя и дошедший до нас в рукописи из эпохи XII династии, но списанный с оригиналов, относящихся к III и V династиям. В более позднем из этих двух отрывков мы встречаем любопытные нравственные наставления, хотя и данные в мифологической форме, но с вполне реальным житейским содержанием. В этом папирусе идет речь о печальной судьбе старика, жалующегося на упадок физических сил, притупление чувств и исчезновение интереса к жизни. Бог Гонген отвечает на жалобы старика, что каждый человек может быть полезен и что дело старика учить молодых добродетели. Затем указано, какие именно советы следует давать людям. Так, например, надо быть кротким со слугами, любить жену, жить с нею без ссор, кормить ее и украшать, дарить ей благовония и радовать ее, так как жена, по мнению древнеегипетского моралиста, есть добро, которое должно быть достойно своего обладателя.
Наряду с нравственным элементом, очень рано выступает и теоретический философский элемент, в виде первых попыток найти объяснение явлений природы и притом такое, которое захватывает, по возможности, все наблюдаемые явления. К этому стремятся древнейшие космогонии, в которых мы еще видим признаки наивного реализма, т. е. доверия к непосредственным показаниям органов чувств. Так, например, многие восточные и древнегреческие мудрецы и философы считали землю родом плоской, круглой доски или тимпана - представление, связанное с непосредственным впечатлением, доставляемым видом горизонта на открытой местности или на море. Неподвижные звезды, по мнению многих египетских жрецов, бывших в то же время астрономами, представляют род лампад, прикрепленных к небесному своду. Эти лампады (хабизу), по утверждению египтян, каждую ночь вновь зажигались богами. Впрочем, в Египте существовало и другое, более антропоморфическое представление о звездах, которые часто изображались в виде гениев или духов в человеческом образе; иногда их изображали и в виде животных, плавающих в лодках вслед за Озирисом. Грубые верования смешивались, такими образом, с грубыми наблюдениями, и разные, частью даже противоречащие друг другу, представления могли отлично уживаться рядом. Из Берлинского папируса ясно, например, что астрономические представления египтян находились также в немалой зависимости от географических и метеорологических особенностей страны. Огромное влияние, оказываемое Нилом на земледелие, а вместе с тем и на всю жизнь, и на умственный склад египтян, обнаруживается всюду. Даже небесный свод приводился в тесное соотношение с водою, чему могли способствовать и наблюдения над смерчами. По египетскими преданиям, бог Шу поднял воды и распространил их в пространстве, на этом небесном океане (Ну) плавают планеты и звезды.
Необычайная древность египетской цивилизации придает особый интерес мифологическим представлениям египтян; в этих мифах следует искать п первые начала философских и научных понятий Египта; и понятно, почему именно у египтян происхождение мифологических образов, даже наиболее причудливых, легко может быть прослежено до тех источников, которые имеют характер грубого эмпиризма, а не утонченной фантазии. Так, например, первоначально египетские божества не имели еще того отвлеченного характера, при котором оказалось возможными смешение космических начал с физиологическими н даже с этическими данными, например, идеи солнца с идеей смерти и возмездия. Легко доказать, что древнейшие мифологические представления египтян теснейшим образом связаны с географическими условиями, с этническими и политическими подразделениями, общественною и семейною жизнью, с наблюдениями над жизнью животных и растений. Позднее являются более сложный, смешанные и в то же время более абстрактные представления.
Oг. Конт, как известно, считал первичною формою теологического миросозерцания так называемым фетишизм, в котором видел непосредственное смешение представлений о живом и безжизненном. Новейшая антропология в значительной мере отвергла этот взгляд. Показав, что фетишизм есть лишь одна из форм анимизма, она пытается доказать, что этот анимизм явился, как результата очень сложная развития представлений, главным образом, зависящих от наших физиологических п психических процессов (сон, смерть, бред, сумасшествие, опьянение), но частью связанных и с наблюдением явлений физического мира (ветер, тень, отражения в воде, миражи). Очевидно таким образом, что смешение неодушевленного с одушевленным не есть что-либо врожденное человеческому уму или свойственное ему в самом неразвитом ее состоянии, но является лишь, как результат грубых попыток объяснить явления природы, по аналогии с некоторыми, наиболее поражающими внимание дикаря процессами в его собственном организме и в окружающем мире. И действительно, фетиш рассматривается не как нечто само по себе живое, но как предмет, населенный живым существом, обладающим более или менее человеческими свойствами. (Другими словами, фетишизм является не как инстинктивный и интуитивный способ объяснения, но как продукт развития представлений, добытых опытом.)
Эта анимистическая теория, в значительной мере, изменила также взгляд на первобытные стихийные божества и на обоготворение светил. И стихии, и светила, по этой теории, представляются первобытному уму не как живые существа в настоящем смысле этого слова, но как местопребывания демонов или призраков, имеющих человеческое происхождение. Даже обоготворение животных, по мнению крайняя представителя этой теории, Спенсера, основано не на прямом уподоблении животных—человеку, а на допущении, что в животном поселился призраки, двойники или, вообще, призрачное, но человекоподобное существо.
По моему мнению, такой взгляд на происхождение древнейших верований, в свою очередь, не свободен от некоторого преувеличения. Бесспорно, что мнение, приписывавшее первобытному человеку постоянное смешение живого с неживыми и одушевленная с неодушевленными, впадало в обратную, еще худшую крайность. Если бы дикарь считал все неживое — живым, это было бы для него прямо гибельно. Нам еще памятно то время, когда предания, несомненно полуисторического характера, истолковывались учеными специалистами, как солнечные мифы, причем даже древние русские князья и их дружинники превращались в солнечных богов. Однако, почти такой же крайностью было бы отвергать, что некоторые явления природы, по самой своей сложности и непонятности, внушали представление о живом деятеле, и притом не совсем сходном с теми призраками, двойниками и ходячими мертвецами, которых всюду выставляет анимистическая теория). Справедливо лишь одно, а именно, что всякого рода живые деятели более или менее уподоблялись человеку, и что поэтому первобытной стадией верований должен считаться не фетишизм, в том смысле как это выражение понималось Контом, но более или менее грубый антропоморфизм. Однако, степень подобия с человеком могла быть весьма различною, и даже в грубейших верованиях эти различия довольно значительны.
Египетские верования представляют ценный материал, позволяющей судить о дальнейших ступенях развития анимизма. По мнению древних египтян, человек обладает не телом и душою, но телом и двойником (Ка). Двойник этот — как бы второй экземпляр тела, состоящий из вещества менее плотного, чем наше; иногда его представляют также в виде цветной тени, точно подобной обладающему ею человеку. Мало по малу это первичное представление о двойниках усложняется и утончается. Ка становится родом птицы (Би) и даже светящейся искрой (Ху). Любопытно, что эти представления не вытесняют друг друга, а уживаются рядом. Двойник живет в гробнице, птица улетает в другую страну; искра, одаренная человеческой мудростью и снабженная талисманами, покидает мир, чтобы более не возвратиться, и соединяется с богами света. Здесь наблюдется постоянно возрастающая абстракция — правда, в наивной форме: все более значительно удаляется душа от тела после смерти, и все эти три рода души допускаются, как совместимые между собою—подобно тому, как у многих европейских народов допускались разные виды души и духа. Сообразно с постепенным развитием абстракции наблюдается и развитие этической идеи ответственности и вменяемости: нравственная связь растет обратно пропорционально физической. Первоначально, двойник нимало не отвечает за деяния человека. Живя под землею, он терпит голод; поэтому ему доставляют пищу, сначала непосредственно, позднее при помощи молитв. Впоследствии является понятие о возмездии, и душа предстает пред судом Озириса.
Конкретными представлениям о душе или, точнее, о двойниках вполне соответствовали также представления о богах и о силах природы. У египтян богам приписывались или чисто человеческие, или животные атрибуты, но и в последнем случае с примесью человеческих свойств, и если являлись чудовищные образы, то не в такой уже фантастической форме, как у индусов. На ряду с красавцами у египтян появлялись уроды: так, например, Фта, большею частью красивое божество, иногда изображалось в виде рахитического ребенка, другое божество имело вид свирепого карлика. Что касается обоготворения животных, в этом случае крайности анимистической теории, особенно в той форме, как она понимается Спенсером, т. е. в форме чересчур антропоморфической, по-моему, очевидны. Нет надобности допускать, что с самого начала человек населял животных человекообразными призраками, так как сходство животных с человеком и без того было слишком ясно для мало развитого ума, и он точно также легко мог представлять себе животное в виде человека, как и человека в виде животного; без труда представлял он себе и смешанные формы, вроде льва или кабана с человеческой головою. Даже для стихийных и солнечных божеств едва ли возможно отрицать, что дуновение невидимого ветра, сходное с дыханием человека, видимое движение солнца, и тому подобные явления, внушали представление о чем-то живом и в то же время превышающем силы человека. Конкретность понятий выразилась здесь в необычайном дроблении представлений; так, например, у египтян солнце обоготворялось под десятками различных форм и названий, при чем здесь мы видим связь мифологии и с первобытными астрономическими наблюдениями, и с первобытною речью, не умеющею выработать выражений для сколько-нибудь общих и отвлеченных понятий, так, как и самые понятая были смутны или вовсе отсутствовали.
Замечательные открытия ориенталистов не так давно еще возбудили преувеличенным надежды на то, что в Египте, в Халдее, в Индии будут найдены такие кладези премудрости, которые затмят собой древнегреческую философию. Вместе с тем, явилось мнение, будто древнегреческая умственная жизнь была лишь прямыми продолжением и развитием основных начали, заимствованных Грецией с Востока. Мысль эта не нова, так как ее высказывали даже многие древнегреческие писатели, и еще один из самых ранних историков философии, Диоген Лаэртский, счел необходимыми выступить против такого мнения с чересчур резким заявлением, что у варваров, т. е. не греков, никакой философии никогда не было и не могло быть. Разумеется, то или иное суждение по этому вопросу существенно зависит от определения, данного философии. С нашей точки зрения, т. е., если философию признать системою миросозерцания данной эпохи, становится необходимыми допустить, что граница между философским и обыденным мышлением не может быть резко проведена. Подобно тому, как наука возникла не внезапно, а путем медленного развитая из практических, эмпирических знаний, так п философское миросозерцание явилось не как „вооруженная Минерва из головы Юпитера", а как медленный продукта развитая; при чем нет возможности сказать, где кончается миф и житейский „здравый смысл" и где начинается философское умозрение. В одном лишь смысле можно сказать, что философия имеет начало, а именно в том, что настает эпоха, когда, наконец, философская мысль сознает свою противоположность и с мифом, и с житейской рутиной, выступая, как элемент критики и протеста. Но и такое сознание является не сразу, а у многих народов, как например у египтян, насколько позволяют судить дошедшие к нам памятники, подобного рода философии никогда и не было. Если она проявлялась, главным образом в этической области, у других народов Востока (достаточно напомнить о буддизме), то все-таки в области чисто теоретической ни один народ не создал таких выработанных систем, какие мы видим в древней Греции; и новейшие работы по истории философии, в особенности же капитальный труд Целлера (5ое изд.), значительно устраняют прежнее мнение о зависимости в этом отношении древних греков от предшествующие восточных цивилизаций. Если Целлер иногда впадает по-видимому в излишний скептицизм, подвергая сомнению такие правдоподобные события, каково путешествие Фалеса в Египет, то основная его мысль все-таки остается верною: развитие философии в древней Греции шло самостоятельным путем, оно не может считаться продолжением развития восточных философских учений. Если под влиянием греческой философии явились новые заблуждения, с таким успехом усвоенные схоластиками, то, конечно, это так же мало может быть поставлено в вину древним грекам, как и то обстоятельство, что они не предвидели крушения всей цивилизации классического мира.
Как и большая часть идей новейшего времени, идея эволюции (развития) не была чужда классическому миру, хотя и не имела в нем прочного фактического основания.
В древней греческой философии вполне ясно высказывается взгляд на естественное изменение и развитие тех или иных форм окружающего мира. Конечно, очень многое, относящееся к превращению и развитию форм, можно найти и в индийской философии, обратившей на себя особое внимание со времен Шопенгауэра; но крайняя шаткость индийской хронологии и пестрая смесь философских начал с теологическими фантазиями в значительной мере понижают значение Индии, как предшественницы древних греков: позднейшие же индийские системы, как показали новейшие исследования, сами в значительной степени подверглись влиянию греческой философии, а именно через посредство арабов.
Идея естественного изменения и развития не может быть отделена от общего взгляда на происхождение вселенной и человека; поэтому нам придется бросить беглый взгляд на постепенное развитие космогонических и этических идей классического мира, взятых в целом, а сделать это—значит дать очерк развития всей греческой философий, при чем нам придется ограничиться лишь самыми существенными чертами.
Хотя древнегреческая философия изучалась едва ли не более всякой другой, взгляды на ее происхождение, развитие и роль в истории умственного совершенствования человечества далеко еще нельзя считать вполне установленными; сомнительно даже, чтобы полное согласие по этому вопросу могло быть достигнуто раньше того времени, когда исчезнут последние остатки метафизического миросозерцания. Для идеалистов метафизического пошиба, Платон навсегда останется величайшими представителем древнегреческой мысли; к Аристотелю они отнесутся более или менее снисходительно, а Демокрита едва удостоят внимания: известно, что уже в древности Платон ни одними словом не упомянет о сочинениях Демокрита. Для мыслителей, более или менее склонных к механическому миросозерцанию (представляющему своего рода метафизику), Демокрит окажется величайшим естествоиспытателем и философом древности, Аристотель подвергнется порицанию за свою телеологию, но в тоже время будут указаны с похвалою некоторые его труды по естествознанию, а Платон представится лишь мечтателем, принесшими более вреда, чем пользы. Здесь во всей силе обнаружатся последствия того бессознательного пли нарочно скрываемого субъективизма, который еще не возведен в ранг особого научного метода. Можно, впрочем, указать на некоторых историков философии, которые иначе отнеслись к своей задаче и рассматривали различные философские учения древней Греции, как части одного великого целого, или как неизбежные ступени развития, пройденные мыслью по определенным, свойственными ей законами. Было бы несправедливо отрицать, что к числу таких историков философии необходимо отнести п Гегеля. Признавая за ними заслугу такой объективности, можно, однако, оспаривать указанные ими самими законы развития философии и даже подвергнуть сомнению их научное значение.
Многие немецкие писатели, однако, до сих пор придерживаются того мнения, что Гегель должен считаться основателем истории философии, как науки. Прежде всего очевидно, что они при этом упускают из виду все сделанное до Гегеля вне Германии, например, Бэйлем и французскими энциклопедистами. Но даже если согласиться с произвольным утверждением, что кроме древней Греции и Германии нигде не было философов, то и в этом случае придется сказать, что—не говоря уже об Аристотеле, у которого мы видим очерк истории философских систем—Лейбниц, Лессинг, Гердер, Риттер в значительной мере предварили как раз то во взглядах Гегеля, что представляет наибольшую ценность. Если же оставить в стороне вопрос о первенстве, то придется сказать, что заслуги Гегеля в деле выяснения развитая философской мысли все-таки крайне преувеличиваются. Научная постановка истории философии была невозможна для системы Гегеля, так как этому препятствовали ненаучный характер основных положений самой гегелевской философии. Историю мысли нельзя придумывать по заранее составленными схемам: надо изучить ее законы на основании объектов исследования. Заслуга Гегеля, поэтому, сводится к тому, что он содействовал возбуждению научного интереса к предмету, слишком часто служившему материалом для жалких компилятивных, трудов. Протест Гегеля против биографических рассказов о деяниях п мнениях философов, под громким именем исторических исследований, был в то время очень полезен: не менее уместны были и его иронические замечания по поводу так называемой учености, состоящей, по словам Гегеля, в знании как можно большего количества бесполезных вещей. Иронизируя над многотомными трудами по истории философии, Гегель замечает, что авторы этих трудов „подобны животным, отлично слышащим все тоны музыкального произведения, но не усваивающими смысла и гармонии". Взгляд на историю философии, как на собрание мнений философов, и привел, по мнению Гегеля, к тому, что эту историю стали рассматривать, как поле сражения, усеянное костями умерших. Не менее остроумны замечания Гегеля по адресу тех философов, которые начинали историю мысли с самих себя. К ним, по его словам, вполне применимы слова апостола Петра: „Взгляни: те, которые вынесут тебя вон, стоять уже подле дверей".
Все эти отдельные счастливые мысли Гегеля все-таки не искупают пустоты схем, вытекающих из его собственных диалектических построений. В самом начале своего труда по истории философии, Гегель вынужден употреблять все усилия своего, изощренного формальною логикой ума для разрешения нарочно придуманных искусственных противоречий. Стараясь определить предмет истории философии, Гегель с первого же шага выставляет противоречие между преходящим существованием (так я перевожу известный немецкий термин Werden. Предложенные другими авторами термины частью режут слух и ровно ничего не выражают (например, бывание) частью неточны (образование, происхождение. Возникновение и т.п.). Термин «становление» (от слова становиться) довольно точен, но слишком неуклюжи едва-ли когда-нибудь привьется) философии и вечностью, и неизменностью мысли. Если мысль вечна и неизменна, то как же возможна её история? Для религии Гегель решает этот вопрос, установив различие между внутреннею и внешнею стороною верований.
Христианская истина, по его словам, в строгом смысле слова, не имеет истории: она вечна и недоступна изменению: может идти речь лишь об истории отдельных христианских вероисповеданий и сект. Но для философии сам Гегель не может указать такого незыблемого основания. В истории философии, по его словам, нет ни спокойного присоединения новых сокровищ к старыми, какое мы видим в истории науки, ни простого, инертного содержания, каким обладает христианская религия; мы видим здесь, наоборот, ряд все возобновляющихся попыток изменить целое. Но если так, то в чем разрешение противоречия между вечною истиной и её преходящими формами в разных фазисах развития философии? В чем проявляется вечность и неизменность философской истины?
Гегель дает на это ответ, пытаясь установить своеобразное понятие о развитии мысли. Ожидать многого от его ответа нельзя, после того, как нами известно, что в области естествознания гегелевская теория развития выказала свою полную несостоятельность.
Присматриваясь к учению Гегеля о развитии, легко убедиться в том, что его взгляды на этот предмет представляют своеобразное смешение понятий, заимствованных из классической философии, с теми воззрениями, которые очевидно связаны с некоторыми современными Гегелю научными теориями, какова, например, пользовавшаяся большими успехом преформационная теория, признававшая зародыши — миниатюрной копией взрослого организма, например, желудь—вместилищем крошечного свернутого дуба. Ко всеми этими классическим и новейшими представлениям, Гегель добавил свои формальные логические схемы и варварскую терминологию; в общем получилось нечто вполне неприменимое ни к каким реальными случаями развития.
По словам Гегеля, для того, чтобы понять, что такое развитие, надо различать потенциальное или зачаточное состояние от действительного или актуального. По терминологии Гегеля первое называется по себе бытием (Ansichsein), второе — для себя бытием (Fursichsein). Гегель приводит пример, ясно показывающий какую цену можно придать его потенциальности, в значительной мере, заимствованной им у Аристотеля. Человек, —говорит он, разумен от природы; это значит, что у него разум существуете в зачатке, в зародыше, н в этом смысле человек обладает разумом, рассудком, фантазией, волей, как только он родился, или даже в утробе матери. Мы не можем отнестись к Гегелю слишком строго за такие суждения, так как взгляд его до сих пор разделяется даже некоторыми научно образованными людьми, не видящими ничего нелепого в утверждении, что утробный зародыш или даже, быть может, яичко матери и семенное тельце отца обладают разумом, волею, —быть может, и способностью к метафизическим умозрениям, хотя и нигде не проявляющейся, но все-таки существующей в скрытом состоянии. Однако, по своей страсти к противоречиям, Гегель не мог на этом остановиться. По его словам, «Пока у ребенка есть лишь способность или реальная возможность разума, то дело обстоит так, как будто у него вовсе нет разума; разум еще не существуете при н е м».
Лишь когда возможное (потенциальное) становится действительным, человек становится действительно разумным. Великая истина—слишком похожая на банальную тавтологию, но выраженная у Гегеля при помощи его неудобопонятных терминов, часто прикрывающих совершенную пустоту результата. Но что же собственно означает это «превращение возможности в действительность?». Оказывается, что здесь следует подразумевать вступление существующего «по себе» в сферу сознания, вследствие чего оно и становится уже не «по себе», а существующим для человека. Если человек был разумен «по себе», даже во чреве матери, то, по-видимому, став разумными «для себя» он выиграл немногое; но Гегель полагает, что здесь, наоборот, является «чудовищное различие» и что на этом различии основан весь ход мировой истории.
Если отбросить все искусственные термины Гегеля и, по возможности, извлечь из этого рассуждения все, что в нем есть соответствующего действительной истории умственного развития, то окажется, что речь идет просто о возрастании самосознания. Без сомнения, это явление составляет одну из характеристичных особенностей истории мысли, но, к сожалению, оно вовсе не укладывается в рамки диалектического процесса. Те стадии, которые Гегель абсолютно противополагает между собою, как возможность и действительность, на самом деле представляют лишь относительные противоположности, т.е. между ними существует целый ряд промежуточных звеньев. Человеческое самосознание выступает, не как внезапно и чудесными образом явившееся отрицание «по себе бытия», но как продукт последовательного развития зачаточных свойств, в начале, без сомнения, совсем несходных с будущим развитым состоянием. Зачатки душевных способностей человека так же отличаются от разума, как оплодотворенное яйцо — от развитого человеческого организма; поэтому и всякие рассуждения о возможном (потенциальном) разуме человеческого зародыша, как о чем-то уже существующем, лишены значения. Правда и до настоящего времени авторы, пишущие о наследственности душевных свойств, выражаются такими образом, как будто уже зародыши содержит, хотя и в скрытом состоянии, но все-таки в готовом виде, все душевные свойства взрослого: к сожалению, никто не может указать, где и в какой форме скрываются эти готовым способности и каким образом свойства развитого организма могут явиться раньше самой организации. В истории развития философии, как и в индивидуальном умственном развитии, существует, однако, элемент, который, до известной степени, может быть подведен под гегелевскую схему, да и то под условием не придавать особого значения синтезу противоположностей. Этот элемент обратил на себя внимание не столько самого Гегеля, сколько так называемой левой или радикальной фракции гегельянства. Речь идет о значении философии, как элемента, протестующего против установившихся взглядов и верований, и стало быть становящегося с ними в полное противоречие. В этом смысле, действительно, и в личной жизни человека, и в истории философских систем, можно указать примеры резко и внезапно возникающих проблесков самосознания и контраста с окружающим. У народов, подверженных власти жрецов, часто являются независимые проповедники и пророки, из которых многие сами испытали внезапное просветление, приписываемое ими сверхъестественной силе или велению высшего существа; у более реально настроенных народностей, главным образом у древних греков, вместо пророков являлись философы, также нередко выступавшие с необычайною смелостью против закоренелых предрассудков и суеверий и иногда платившиеся за свою смелость. Здесь, действительно, мы нередко видим творчество в реальном значении этого слова, т. е. сравнительно внезапное, не имеющее заметных предшествующих стадий, возникновение совершенно новых теоретических и этических понятий. Отрицать этот личный, творческий элемент в истории — значить отвергать её наиболее драматические эпизоды; однако, и в этих случаях постоянно оказывается, что идеи, приписываемые исключительно тому или иному мыслителю, возникли не только в его уме, и только были им выражены в более резкой или более законченной форме. «Теория великих людей» не находится ни в малейшем противоречии с теорией исторической законности, управляющей действиями и мыслями не только толпы, но и героев, и проявляющейся в том, что даже величайшие из гениев оказываются, в значительной степени, продуктами своего времени. Можно, поэтому, вслед за Гегелем, назвать историю философии «галереей героев мыслящего разума", но он уже заметил, что события истории философии не должны быть относимы (по крайней мере исключительно) к индивидуальному характеру философа, и что всякая философия есть философия своего времени; однако, вместо того, чтобы действительно отнести философию к общему характеру эпохи, Гегель пытался объяснить развитие философии абстрактной свободой мысли и не менее абстрактно определенной природой «человека, как человека». Освободив, таким образом, развитие философии от всех его реальных основ, Гегель неизбежно должен был прийти к какой-либо схеме, лишенной реального содержания. Такой схемою и является у Гегеля самоуглубление мысли, все более и более старающейся проникнуть в свою собственную сущность, в чем Гегель и видит основную формулу всего философского развития.
Оставив в стороне подобное схематизирование и обращаясь к действительному развитию древнегреческой мысли, необходимо прежде всего дать ответь на не раз возбуждавшийся вопрос: в какой мере греческая философия может предъявлять притязания на самостоятельность и независимость от предшествующих ей миросозерцаний других раньше цивилизовавшихся народов?
Взгляды на этот предмет до сих пор еще колеблются между двумя крайностями. Из новейших популяризаторов, представителем одного из этих взглядов может считаться, например, Дрэпер, придающий философии, науке и, вообще, цивилизации древнего Востока крайне преувеличенное значение, по сравненью с первыми началами греческой философии и науки. Так, по мнению Дрэпера, до открытия грекам доступа в Египет Псамметихом, сношений между греками и египтянами почти не было; Фалес, посетив египтян, «не успел вступить в сношенья с представителями науки» (откуда взяты эти подробности—остается неизвестными, так как о путешествии Фалеса имеются лишь крайне скудные и сомнительные данные); он имел дело «только с простыми народом, у которого и переняли народное понятие о том, что первичное начало всего—вода». Далее, Дрэпер совсем уже забывает о роли историка и пускается в беллетристические фантазии о том, как «любознательный, но плохо образованный Фалес приехал в таинственную нильскую страну», при чем греческий мудрец оказывается в положении «умного американского индейца», случайно пробравшегося в цивилизованное государство п смешавшего философию матросов с философией ученых людей. Дрэпер, впрочем, признает «силу греческого ума», способная быстро развить то, что в Египте тысячи лет оставалось неподвижными. Но он забывает прибавить, что все, известное нам об египетской философии, не позволяет поставить ее выше умозрений Фалеса; поэтому у нас нет ни малейшего основания отвергнуть, по крайней мере, то, что этот греческий «дикарь» стоял уже на уровне высшей египетской премудрости и был способен ее усвоить. Если же мы сравним египетскую науку н философию с воззрениями ближайших преемников Фалеса, —значительно превосходящими все, что дано Египтом, то придется подвергнуть крайнему сомнению основательность приведенной характеристики Дрэпера, резко противоречащей его же собственными суждениям о несколько позднейшей эпохе. Замечательно, что как раз обратное мнение отстаивается теперь наилучшими знатоками греческой философии и что к этому противоположному взгляду приближаются даже некоторые из наиболее выдающихся ориенталистов. Масперо часто высказывается в том смысле, что влияние Египта п вообще Востока на Грецию было сильно преувеличиваемо. Конечно, сами египтяне смотрели на греков приблизительно так же, как китайцы смотрят на европейцев, т. е. считали их грубыми, хотя и способными варварами. Простой народи в Египте гнушался греков, считая их нечистыми за нарушение египетских предписаний о пище, а поэтому египтянин не стал бы есть из одной посуды с греком; жрецы, гордясь тысячелетиями своей цивилизации, смотрели на греков, как на детский народ без истории, без прошлого, а когда они несколько ознакомились с греческой философией, то естественно стали приписывать ей египетское происхождение. В этом их поддерживали отчасти сами греки, любившие производить свою философию, науку и даже свои знатные роды с Востока, подобно тому, как и теперь еще считается почетными происхождение от знатных иностранцев. Позднее легенды о восточном происхождении греческой философии усердно распространялись александрийскими евреями, а от них были усвоены и христианскими писателями. Отсюда возник целый ряд очевидно вздорных легенд, вроде той, что Пифагор служил в войске ассирийского царя или что греческие философы, научились многому от Моисея, к которому нарочно приезжали с этою целью. Климент Александрийский самыми категорическими образом называет Платона еврейскими философом «ό έξ Ёβραίων φιλόδοφος» . Значительную поддержку мнению о восточном происхождении греческой философии оказали ново платоники и ново пифагорейцы. Однако уже в древности раздавались протесты против слишком высокой оценки Востока. Так Платон, несомненно путешествовавший по Востоку и успевший испытать высокомерие египетских жрецов, высказал чрезвычайно характеристичное замечание, что у эллинов развита склонность к науке, а у египтян н финикиян—к барышу. Аристотель, которому принадлежит много важных замечаний по истории греческой философии, с полным беспристрастием указываете на египтян, как первых учителей греков в области геометрии, но ни словом не упоминает о том, чтобы греческая философия произошла от египетской.
(Хронологические данные, относящиеся к ионийской натурфилософии, лишены достоверности и могут быть приняты лишь с приближением, могущим дать ошибку на целое поколение. По Целлеру, Фалес родился около 624 г. По Геродоту, он предсказал затмение 585 г.; вероятно, им был предсказан лишь год, а не день затмения (оно произошло 28 мая Юлианского стиля). Многие новейшие писатели утверждают, что Фалес пользовался при этом предсказании халдейским периодом (саросом). Без сомнения, Фалес не мог, при своих геометрических средствах и астрономических познаниях, вычислить затмение рациональным путем, и должен был сделать это эмпирически, на основании каких-либо записей: но знал ли он о записях халдеев, это еще требует доказательства. Умер Фалес около 560 г. Эпоха жизни Анаксимандра определяется приблизительно от 611 до 545 г. Еще менее определенны сведения об Анаксимене; однако, мнение, что он был старше Анаксимандра лишено правдоподобия. Умер Анаксимен между 525 и 499 г. Таким образом, достоверно известно лишь одно, а именно, что эпоха деятельности первых ионийских философов относится к VI веку до начала нашей эры.)
Из новейших писателей, упорно отстаивавших восточное происхождение греческой философии, достаточно назвать Гладиша и Рёта (Roth). Первый из них дал теорию, настолько искусственную, что она падает сама собою. По мнению Гладиша, каждая из главных философских школ Греции произошла из особого, независимого восточного источника, при чем оказывается, что и пифагорейская философия возникла из китайской, элеатская из индийской, учение Гераклита произошло от персов; Эмпедокл оказывается представителем египетской философии, а Анаксагор— еврейской. Можно смело сказать, что никто иной, как Гладиш, дал наилучшее опровержение „восточной" теории, приведя ее к нелепости и указав на неизбежные противоречия, к которыми она приводит. То обстоятельство, что отдельные философские системы Греции представляют более пли менее значительным сходства с миросозерцанием различнейших восточных народов, частью почти не имевших столкновений с греками (как например китайцы н даже индусы до времени Александра Македонского), прямо показывает, что эти сходства следует объяснять или общечеловеческими психологическими основаниями (как, например, при сравнении с китайскими), или общностью мифологической основы, из которой развилась философия; а общность мифа могла зависеть от отдаленной общности происхождения (например греков и индусов от общего арийского корня). К этим соображениям необходимо добавить скептические замечания Целлера, который указывает на невероятность допущения, что различные восточные идеи не перемешались по пути в Грецию или в самой Греции, а выделились в особые философские системы и при том так, что более отдаленные от греков восточные народы, как например, китайцы, повлияли на них раньше, нежели египтяне. Если же допустить отдаленнейшие влияния чрез посредство мифа в эпоху, когда греки могли быть соседями впоследствии отдаленных от них народов, то каким образом, например, мог иудаизм повлиять на Анаксагора чрез посредство греческого политеизма?
Сверх того, придется допустить и ряд других несообразностей, вроде той, что, например, учение о переселения душ было заимствовано Пифагором из Китая, а Эмпедоклом из Египта.
Менее очевидный несообразности допускаются такими защитниками восточного происхождения греческой философии, каковы Рёт и Тейхмюллер. В этом случай понадобилась эрудиция Целлера, чтобы обнаружить некоторые очень ловкие натяжки, стремящиеся к выводу греческих философских учений, главным образом, из египетских источников. Основательные соображения в пользу самостоятельности греческой философии были высказаны уже Риттером. Отсутствие борьбы с чуждыми элементами, вполне популярная терминология древнейших греческих философов, стихотворная форма, которую они избирали, распевая свои философские поэмы, подобно гомеровским рапсодиям, наконец, близкое родство первых философских систем с народными преданиями и народной мудростью, все это противоречит идее заимствования или пересадки египетских систем на чуждую им почву.
Не мешает заметить, что даже общепризнанное влияние научных знаний египтян на греческую математику и астрономию не должно быть преувеличиваемо, и весьма возможно, что первые по времени греческие математики нашли самостоятельно многое из того, что было известно египтянам и другим народам Востока, но чего греки не успели заимствовать. Можно, например, без пространных доказательств отвергнуть басню, утверждающую, что Фалес научил египтян измерять высоту пирамиды по длине ее тени, но точно в такой же степени сомнительно, чтобы приписываемый Фалесу теоремы были заимствованы им у египтян; пифагорейское же учение о шаровидности земли, насколько можно судить, выработалось совершенно самостоятельно.
Преувеличенныt представления о высоком развитии математических и астрономических познаний у древних народов Востока совершенно опровергаются новейшими исследованиями по этому предмету. Так, например, несомненно, что математические познания халдеев, не смотря на их постоянные занятия астрономией, были крайне грубы, и в особенности не совершенны были их геометрическая познания — более основательными сведениями они, подобно финикиянам, обладали в области арифметики. Геометрические фигуры у халдеев служили не столько для науки, сколько для магии: вместо решения задач, по этим фигурам гадали. О грубом приближении, которым довольствовались халдеи в геометрической области, можно судить по тому, что отношение окружности к диаметру они принимали равным трем, и даже в позднейшем еврейско-халдейском памятнике (Вавилонском талмуде) встречается правило: «что в обхвате имеет три ширины ладони, то в поперечнике имеет одну ширину ладони". В области астрономии халдеи, правда, изобрели солнечные часы и умели предсказывать год солнечного затмения, что, по всей вероятности, узнали чисто эмпирическим путем, из продолжительных записей раньше наблюдавшихся затмений. Более совершенной ступени достигла геометрия у египтян, где она имела характер чисто практического искусства — землемерия, крайне необходимого, благодаря господствующей здесь системе земледелия. В настоящее время мы имеем полную возможность судить о математических познаниях египтян, главным образом, благодаря знаменитому папирусу Британского Музея (так называемый Papyrus Rhиncl), переведенному и объясненному гейдельбергским профессором Эйзенлором. Из этого папируса и других памятников мы приходим к следующим общим выводам: около 1700 года до P. X. египтяне обладали уже довольно выработанными арифметическими познаниями и были знакомы с дробями, впрочем, лишь с такими, у которых числитель равен единице; они решали задачи, которые приводятся к уравнениям первой степени с одним неизвестным и имели некоторое понятие об арифметическом прогрессии. Геометрические сведения их были, однако, почти исключительно практического характера: о теоремах, в настоящем смысле слова, не было и помину, подобие фигур сознавалось довольно смутно, а вычисление площадей производилось вполне точно лишь для четырехугольников. Даже в простейшем случае равнобедренного треугольника, мы видим у египтян приближенное вычисление площади, вместо точного; что касается отношения окружности к диаметру, оно принималось равным квадрату дроби 16/9, составляющему около 3,16—приближение более удовлетворительное, нежели допущенное халдеями. Измерение объемов производилось довольно грубыми приближенными способами. Нет особых оснований допустить, чтобы и во времена Фалеса и Пифагора искусство египетских землемеров (гарпедопантов, как их называли греки, т. е. натягивающих веревку) сделало значительные успехи по сравнению с описанным состоянием; поэтому, позднее Демокрит мог уже без всякого хвастовства сказать, что никто даже из египетских землемеров не мог превзойти его в искусстве решать задачи. Во всяком случае, остается несомненным, что искусство, бывшее у египтян чисто практическим характером, было превращено греками в научное теоретическое знание, быстро развившееся—и в эпоху Евклида достигшее высоты, о которой египтяне не могли и помышлять. Нечто подобное должно было бы случиться н с философскими умозрениями, если бы египтяне могли снабдить ими греков; однако, даже в пользу такого условного заимствования греками философской мудрости Египта нельзя представить ни одного, достаточно убедительного факта.
Можно, правда, сослаться на тот несомненный факт, что мифология древних греков носит несомненные следы египетского и, вообще восточного, влияния; а так как мы знаем, что философское мышление выделилось из мифологического творчества, с которым оно связано рядом переходных звеньев, то в этом смысле все-таки придется признать косвенное влияние Востока на греческую философию.
С такой постановкой вопроса можно было бы согласиться, если бы она не приводила к частым злоупотреблениям и недоразумениям. Философское размышление возникло на почве мифа: но это случилось в эпоху упадка и разложения мифа, а не в эпоху его процветания. Отсюда и произошло то, что уже первым греческими философами пришлось подвергнуться обвинению в безбожии. Выступив против народных верований, философия никак не могла усвоить как раз те мифологические начала, которым шли всего более в разрез с её стремлениями, а это и были, по преимуществу, заимствованные греками с Востока мифы, более или менее фантастического, а порою и чудовищного характера. Искать, поэтому, начала греческой философии в культе Дионисия или Цибелы нет ни малейшего основания, и делом философов, по замечанию Целлера, являлось, наоборот, освобождение разума от пут, наложенных на него суеверием и традицией.
Борьба между философией и мифом не приняла в Греции чересчур острой формы, главными образом благодаря общественному строю, не допускавшему никакого резкого кастового деления (исключая деления на граждан и рабов) и, в особенности, не успевшего выделить жреческой касты. Преследования философов имели в Греции скорее нравственно политический, чем религиозный характер; однако, Целлер впадает в излишний оптимизм, пытаясь доказать, что понятие о преступлении против религии (в смысле еретичества) было совершенно чуждо древними греками. Несомненно, что отрицание народных верований и здесь не всегда оставалось безнаказанными и, во всяком случае, было опасными оружием в руках тех или иных противников философа. Всякий политеизм, вообще, склонен к известной терпимости, однако и у древних греков для неё существовали пределы, нарушенные, еще до Сократа, Анаксагором.
Столкновение между философскими умозрением и народными суевериями само по себе уже служит доказательством обособления философии и отделения ее от мифа. Но уже миф пытается решить вопрос о происхождении и изменении всего существующего. Не удивительно, поэтому, что в древнейших теогониях и космогониях можно найти первые зародыши той идеи, которая служить исходным пунктом нашего исследования, а именно идеи превращения и развития. Несмотря на это, необходимо ясно отличать мифологическое решение вопроса даже от самых грубых философских попыток. Аристотель, первый значительный историк философии, был, поэтому, совершенно прав, когда восстал против мнения, что Гесиод и другие поэты должны считаться философами и когда поставил в начале своего исторического обзора Фалеса и других ионийских натурфилософов.
В истории мысли, как и в истории органических существ, классификация необходима не ради одного удобства, а для выяснения генетической связи, и наилучшей будет та классификация, которой удастся установить действительную генеалогию идей.
Правда, и ей не удастся вполне устранить принцип непрерывности, господствующий в истории мысли (хотя и в меньшей степени, чем, например, в биологии). Никакая классификация не может выразить всей действительности, т. е. включить все переходные формы, и в этом смысле всякие подразделения на периоды, на школы и т. п., искусственны. Но наша система будет тем ближе к действительности, чем более она имеет в виду настоящий генетический принцип, т. е. действительную историю происхождения идей, а не искусственно придуманную схему. Недостаточно сказать, вслед за Гегелем, что всякая философия принадлежит своей эпохе и что «единичный человек, как бы он ни топорщился, не может выскочить из своей шкуры». Необходимо на самом деле исследовать историческую преемственность философских систем, имея в виду, как личный, психологический элемент, так и элементы общественные и культурно исторические. Личный элемент, бесспорно, вносит значительную неправильность в исторический ход развития: однако, эти уклонения редко бывают так значительны, чтобы затемнить влияние эпохи. Главные ошибки историков философии происходит, по нашему мнению, как от недостаточного различения между личностью философа н его эпохой, так и от предвзятой формулировки законов развития. Особенно часто забывают о том, что история мысли лишь в очень редких случаях движется в одном определенном направлении. На каждом шагу мы видим, что движение её происходит чрезвычайно сложными путями, часто уклоняясь в сторону, возвращаясь назад и даже вращаясь в замкнутом кругу. Здесь еще более, чем в истории органического мира, общий прогрессивный ход развития не исключает более пли менее продолжительных периодов застоя и даже попятного движения.
Первые попытки к построению философских абстракций, при всем их огромном значении для освобождения мысли от мифологических пут, скрывают в себе и крайне опасную сторону. Еще не успев вполне освободиться от влияния мифа, философская мысль на первых порах самым наивным образом обоготворяет созданный её собственными творчеством абстракции; позднее, когда миф окончательно отходить в область преданий, абстракции продолжают существовать не как субъективно выработанные схемы, но как объективные реальности. У одного из древнейших греческих философов, Анаксимандра, мы видим настоящую абстракцию — понятие о беспредельном — облеченную мифологическими, божественными атрибутами; у пифагорейцев, управляющих миром числа приобретают мистическое и в тоже время почти вещественное значение; позднее у Платона являются идеи, как реальным сущности, представляя даже, по его мнению, настоящую действительность в противоположность призрачному феноменальному миру. Сам Аристотель, несмотря на свою полемику против платоновских идей, не свободен от метафизических призраков, в чем убеждает его учение об отношении между возможными и действительным. Да и вся философия и наука являются для Аристотеля познанием первопричин, причем снова чистые абстракции возводятся на степень основного действующего начала. Вся греческая философия, несмотря на её громадное значение и влияние, оказанное ею на науку, имеет, таким образом, существенно метафизический характер. Это не мешало ей выработать некоторые важные истины, занявшие прочное место в положительной науке. Как уже было замечено, даже «теологический фазис», установленный Контом, никогда не существовал в чистом виде, и в эпоху процветания грубейшей мифологии, в эпоху, современную мамонту, были уже положены начала науки, искусства и техники. Еще в большей степени применимы те же соображения к классическому миру, с его метафизическими умозрениями, так как на ряду с ними мы видим расцвет искусства и развитие математических, а частью и естественных и социальных наук; но именно в области естествознанья всего резче проявилось влияние метафизических умозрений. Гибельным оно стало лишь в позднейшую эпоху, когда от греческой науки остался лишь её метафизический остов, которыми и пользовалась средневековая схоластика. Да и в этом случай было бы преувеличением утверждать, что весь схоластический период представляет лишь пробел в истории мысли, но в классическом мире этот остов был лишь частью живого, способного к развитию организма.
Противоположность между мифом и философией еще недостаточно резко обозначена в ионийской натурфилософии; однако и здесь, если не для самих философов, то для современного исследователя, различие между двумя миросозерцаниями несомненно: то, что в мифе является или как поэтический образ, или как смутно сознанный принцип, высказывается философами вполне определенно и ставится в основание учения.
Еще Аристотель заметил сходство между мифами об Океане и Фетиде и взглядами Фалеса. При этом он подчеркнул замечательный факт клятвы водою, основательно указав на его мифологическое значение. Несомненно, что и миф, вопреки мнению некоторых историков философии, не ограничивался простыми описанием явления, но стремился дать им известное объяснение. Мало того, понятие о сверхъестественных деятелях в греческой мифологии рано соединилось с понятием о некотором общем законе, о предопределении или судьбе, которой подчиняются сами боги. Наряду с этим, —что еще важнее, постепенно возникало и сознание естественности некоторых явлений. Не все пугает и поражает даже грубый ум. Крайне обыденный вещи всегда кажутся наиболее естественными, и наблюдения над людьми, животными, растениями очень рано приводят к познанию некоторых эмпирических правил, известных даже дикарям, которые пользуются этими знаниями вполне разумным образом.
К числу явлений, близко знакомых самым грубым племенам, принадлежат явления воспроизведения, рождения и роста. Насколько таинственна и загадочна для малокультурного, но уже начавшего размышлять о своей судьбе, человека—смерть, настолько сравнительно естественною кажется ему задача рождения, так как здесь по крайней мере непосредственная причина появления нового существа для него ясна, и рождение является для него даже типической формою причинности. Постоянный наблюдения над людьми и животными, особенно при грубой простоте нравов, позволяющей уже с юных лет судить о причинах деторождения, делают для малокультурных народов акт воспроизведения и рождения сравнительно понятным и естественным. Этим объясняется стремление применить составленные таким образом понятия и к другим явлениям природы. Читая, например, теогонию Гесиода, легко видеть, что здесь все вращается около идеи физиологического акта воспроизведения. Боги разного пола, соединяясь вместе, рождают потомков; стихиям приписываются человеческие свойства, и эти антропоморфические представления тотчас влекут за собою применение к ним понятий о деторождении, а такое рождение оказывается самым естественным объяснением происхождения всего существующего. Так Эребус и Никс, представители мрака и ночи, рождают Эфир и Гемеру, т. е. производят свет и день, и простая последовательность ночи и дня превращается в подобие акта деторождения. Точно также земля рождает из себя море (на этот раз девственным путем), а соединяясь с небом рождает реки: падение дождя сравнивается с оплодотворением мужским семенем.
Замечательно, однако, что уже в этой древней теогонии мы видим—рядом с грубо натуралистическими представлениями, приписывающими стихиям физиологические половые свойства—также и некоторые отвлеченные понятия, более близкие к позднейшим философским обобщениям. Так, в самом начале теогонии Гесиода мы встречаем, еще раньше мрака и ночи, неопределенное и смутное, но доказывающее уже некоторую способность к отвлеченно, понятие о Хаосе, от которого и происходит все остальное. Я не упоминаю здесь о позднейших переработках теогонии Гесиода, какую мы встречаем, например, у Ферекида Сиросского, по той простой причине, что в этом случае мы имеем дело не с непосредственным мифологическим творчеством: Ферекид, по всей вероятности, не старше Анаксимандра и почти, наверное, моложе Фалеса, и его теогония не предшествует философии, а сама подверглась влиянию философских умозрений: именно поэтому её значение в истории мысли оказывается второстепенными.
Другой естественный элемент, сильно заявляющий о себе в мифологическом творчестве, это элемент моральный, что уже было замечено по поводу древнейших египетских памятников. Моральные принципы нередко встречаются п в гомерических рапсодиях. Наряду с понятием о предопределении судьбы человека волею богов, здесь ясно проявляется и сознание личной ответственности человека за его поступки. Более ясны нравственные начала в «Трудах и днях» Гесиода, где, между прочими, замечательна часто повторяющаяся в древности идея регресса—падения, или ухудшения человеческого рода, некогда блаженствовавшего, а теперь страждущего. Что касается собственно нравственных принципов, они выражены в наивной, но вполне реалистической форме: требуется справедливость, приносящая чело веку счастье, бережливость, прилежание, довольство своей судьбой, осторожность в делах, дружба с соседями, приветливость с теми, кто к нам приветлив. Замечательно уважение к работе, но в этом случае сказывается уже личный элемент—простонародное происхождение певца, так как даже Аристотель, много лет спустя, не успел отрешиться от свойственного греческой философии пренебрежения к ручному труду и ремеслам, составлявшими занятие, главными образом, рабов. Этические стремления мы видим также, задолго до Сократа, у так называемых семи мудрецов (точное число их неизвестно н к ним причислялось до 22 различных имен) и у многих из древнейших лирических поэтов. Тем не менее настоящие философские умозрения вращаются сначала, главными образом, в области космогонии и, вообще, около явлений физического мира.
Ионийская натурфилософия, занимающаяся этими физическими вопросами, была предметом бесчисленных последований, особенно в немецкой философской и исторической литературе; но несмотря на это, взгляды на нее до сих пор оказываются не вполне установившимися. Многое, однако, сделано новейшими писателями и, в особенности, Целлером, который отнесся к большей части придуманных другими авторами искусственных схем и объяснений с здравыми скептицизмом, основанными на многолетнем и многостороннем изучении предмета.
Критика Целлера заставила пересмотреть вновь все положения, казалось, довольно прочно обоснованные, вроде тех, что греческая философия с самого начала разделилась на две ветви— дорийскую н ионийскую, что в ионийской натурфилософии обнаружилось разделение на две школы — динамическую и механическую, что Анаксимандр должен быть выделен из числа первых ионийских натурфилософов и т. п. Еще в первом издании своего капитального труда (1844 г.; в 1892 г. первый том вышел пятым изданием) Целлер основательно заметил, что история ионийской натурфилософии была бы очень проста, если бы её не затемнило чрезмерное остроумие и глубокомыслие новейших историков, из которых он называет Риттера, Аста и др. немецких писателей: но аналогичные натяжки можно встретить и в очень распространенной в России «Истории Философии» Льюиса, где например Анаксимандр провозглашается основателем особой «математической» школы, в противоположность Фалесу н другими ионийским натурфилософами. Из других новейших, значительно распространенных книг можно указать на «Историю древней философии» Вандельбанда, где, вообще, встречаются очень осторожные суждения. Однако и Вандельбанд вдается в искусственным объяснения и совершенно напрасно поясняет, например, что для Фалеса «при выборе воды решающее значение имели не столько её химические свойства, но гораздо более её жидкое состояние». При этом Вандельбанд забывает, что о «химических свойствах» воды Фалес мог иметь лишь то понятие, что отличали воду по вкусу, запаху п т. п., от вина или масла: тем не менее ни Фалесу, никому либо иному из древнейших философов не пришло на ум признать вино и, вообще, какую-либо жидкость, кроме воды, началом всех вещей. Приходится, поэтому, допустить, что кроме качеств воды (её свойств, как жидкости) играет роль п её количество и роль её в природе, и только наблюдение над действиями больших масс воды (моря, реки, дожди) могло внушить мысль о воде, как стихии и начале вселенной.
(Аст, Рикснер и многие позднейшие писатели пытались установить противоположность между ионийским и дорийским или италийским типом философии. Взгляд этот представлял правдоподобие, по аналогии с известными племенными, культурными и политическими различиями ионийского и дорийского типа. Однако уже названные авторы были вынуждены допустить слияние обоих типов в афинской или аттической философской школе. Для того, чтобы выдержать подразделение школ на ионийскую и дорийскую, приходится прибегать к таким натяжкам, каково, например, помещение Ферекида и Демокрита в числе дорийцев, и игнорировать такие факты, каково основание элеатской (стало быть италийской) школы малоазиатским ионийцем. Таким образом, племенные различия играют в истории греческой философии лишь второстепенное значение, что и не удивительно, если вспомним об оживленном умственном общении между древними греками, какова бы ни была их племенная, культурная и политическая рознь).
Раз такая мысль возникла, к ней, конечно, могли примешаться и другие, побочные соображения: так, например, зная, какое значение придавали уже древние теогонии акту оплодотворения п рождения, и помня, что мифологическое творчество установило аналогию между орошением земли дождем и физиологическим процессом оплодотворения, мы можем допустить, что и древнейшие натурфилософы руководствовались подобными же аналогиям.
Сказанное выше служить достаточными объяснением миросозерцания, выработанного родоначальником милетской или ионийской натурфилософии—Фалесом. Не чисто отвлеченный интерес к обобщениям, не одно стремление свести все, в виду постоянной смены явлений, к вечному основному началу (как утверждает, например, Вандельбанд), но и ряд непосредственных наблюдении над природой, и совершенно рациональные для своего времени попытки объединить эти наблюдения — таково было начало ионийской философии.
В виду отрывочности сведений о первых натурфилософах, трудно или даже почти невозможно восстановить их миросозерцание с такой ясностью, чтобы понять доводы, которыми они руководствовались; трудно даже восстановить некоторые их положения в совершенно подлинном виде. Уже Аристотель во многих случаях основывался не на фактах, а на собственных догадках; так он утверждает относительно Фалеса, что «вероятно» этот философ признали воду началом всех вещей, наблюдая влажность животного семени и пищи животных; тот же Аристотель указали и на связь воззрений Фалеса с мифами об Океане и Фетиде.
(При неопределенности границ, отделяющих философию от мифа, само собою разумеется, что трудно дать и такое определение философского миросозерцания, которое исключало бы всякие мифологические представления в древнейших философских системах. Несомненно, что и миф пытается «объяснять» явления, исходя при этом из антропоморфических представлений о природе, но философия на первых порах очень близка к той же точке зрения. Различие, по моему мнению, не столько в содержании, сколько в том, что мифологическое творчество - бессознательно; объяснения, которые им даются, навязываются уму сами собою и вытекают из чисто инстинктивных побуждений, вроде например страха или удивления, внушаемого мало понятным и могущественным деятелем, какова гроза или буря; философия начинается там, где является более или менее спокойное размышление, т. е. где возникают вполне сознательные попытки дать себе отчет о соотношении между явлениями. При этом постепенно развивается и понятие о естественном в противоположность чудесному; затем, чудесное оттесняется на второй план, а под конец философия выступает против него полемически и скептически; однако, даже в мифологическом периоде далеко не все представляется чудесным и необыкновенным. В этом смысле я присоединяюсь к замечанию Виндельбанда против Целлера (в его Grundrиss der Gesch. d. alten Philosophie — краткое извлечение из капитального труда Zeller'a Die Philosophie der Griechien), что нельзя смотреть на объяснение явлений естественными причинами, как на существенный признак, отличающий философию от мифа (Виндельбанд. Ист. др. философии, русск. перев. 1893 г. стр. 30). Но совершенно ошибочен, мне кажется, взгляд Виндельбанда (напоминающий мнение Аристотеля), что наука (подразумевается — и философия) начинается там, «где на место исторической любознательности выступает задача, касающаяся понятий». Взгляд этот связан с другим утверждением Виндельбанда, что мифологи или теологи (по выражению Аристотеля, порождающие все из мрака) являются «представителями идеи эволюционизма». Само по себе это мнение вполне основательно, т. е. древнейшие теогонии исторически предваряют ионическую натурфилософию, с её зачатками эволюционизма: но Вандельбанд напрасно противополагает этот зачаточный эволюционизм—науке, якобы являющейся только там, где возникает понятие о творящем принципе, отличном от вещества. Разъясняя эту мысль, Вандельбанд (стр. 30) уже в чисто идеалистическом духе поясняет, что начало науки и философии следует видеть там, где вводятся постоянные начала, определяющие смену явлений, причем интерес к самой смене отступает на второй план, и, по исключении исторического и временного, остается лишь неизменное. Будь это справедливо, то философию пришлось бы начинать не с ионийской школы, а с элеатов, так как начало (αρχη) ионийцев не есть что-либо неизменно пребывающее, но имеет значение лишь исходного пункта для ряда перемен или для исторического развития всего существующего. Сверх того, не мешает помнить, что как раз преувеличенное стремление к абстракции и к установлению неизменных схем было одною из главных причин, почему, при своем дальнейшем развитии, греческая философия часто отклонялась от действительного изучения природы.
Еще Гегель в своей Gesch. d. Philos. (Ges. Werke В. XIII— XV) указал на искусственность некоторых объяснений, применяемых к милетской натурфилософии, и подчеркнул то обстоятельство, что при суждениях о Фалесе и др. ионийцах нельзя доверяться таким сомнительным авторитетам, каков, например, Цицерон, а следует полагаться лишь на таких писателей, как Аристотель. К сожалению, сам Гегель дает еще более искусственные объяснения, когда пытается во чтобы то ни стало сделать те или иные системы стадиями своего диалектического процесса. Это видно уже из крайне искусственного деления на периоды (отчасти усвоенного у него Вандельбанд), причем первый период вмещает в себе весь расцвет греческой философии от Фалеса до Аристотеля включительно, представляя, таким образом, чудовищную непропорциональность со следующими периодами
Гораздо глубже критические замечания Целлера, который еще в первом издании (Tumbingen 1844) своего труда (8.73) восстал против «преувеличенного остроумия» историков, внесших путаницу в историю философии. В XVIII веке, например, серьезно спорили о том, был ли Фалес теистом или атеистом? В XIX веке начался до сих пор неоконченный спор о значении Анаксимандра. Шлейермахер видел в этом философе «основателя умозрительной науки»; еще и теперь Вандельбанд, хотя и не выделяет Анаксимандра из числа ионийцев, признает его первым метафизиком (что справедливо лишь в условном смысле, т. е. если мы забудем, что «Беспредельное» Анаксимандра, хотя невидимое и бессмертное, мыслилось им, как нечто вполне вещественное и живое).
Риттер, наоборот, полагал (Gesch. der Philos. I, 280), что Анаксимандр „был более предан опыту" и „механическому объяснению природы". Шлейермахер утверждал, что у Анаксимандра преобладает индивидуальное над всеобщим, и в этом видел причину „интереса" этого философа к явлениям органического развития; Риттер ссылался на абстрактность и общность основного принципа Анаксимандра и видел у него скорее стремление к общему. Это мало согласуется с другими утверждениями Риттера. Льюис, почти во всем следующий Риттеру, признает у Анаксимандра „преобладание дедукции". Относительно подробностей учения первых натурфилософов еще в древности существовала путаница, вследствие скудости сведений и еще более по причине приписывания им мнений, относящихся к гораздо позднейшей эпохе. Осторожнее других выражается Аристотель, который даже в очень правдоподобных случаях отделяет свое мнение от установленных фактов. Так, относительно Фалеса, он высказывает, что этот философ считал воду началом всего по-видимому (ϊσως) потому, что семя животных влажно; позднейшие писатели превратили эту догадку Аристотеля в положительное мнение самого Фалеса. (Замечу, впрочем, что Аристотель употребляет выражение „по-видимому" иногда даже там, где он несомненно утверждает что-либо с полною уверенностью). Аристотель приписывает Фалесу мнение, что магнит имеет душу, „потому что он притягивает железо". Как замечено уже Гегелем, Диоген Лаэртский несколько переделывает слова Аристотеля, хотя этот компилятор ссылается также на Гиппия. По словам Диогена, „Аристотель и Гиппий говорят, что он (Фалес) и бездушным существам придавал души, выводя это из свойств магнитного камня и янтаря". Утверждение псевдоПлутарха, будто Фалес говорил о божестве, как мировом разуме — несомненный анахронизм. Из изречений, приписываемых Диогеном Лаэртским Фалесу, по крайней мере половина — подложны. К числу подлинных, вероятно, принадлежит следующее. Когда Фалеса спросили: что появилось прежде: ночь или день? Он ответил: „ночь одним днем прежде" ответ остроумный и тем более вероятный, что, приняв за начало вещей — воду, Фалес мог иронизировать над представлениями древних космогоний, по которым мрак и ночь родили из себя свет и день. Да и самая форма ответа напоминает чисто народную мудрость, выражающуюся нередко даже в безымянном творчестве (например, в пословицах), и такой ответ был вполне по силам Фалесу. Гораздо сомнительнее такие утверждения, как например, что „самое древнее— это бог, самое большее — это место (пространство), самое быстрое — это мысль" и т. п. Знаменитое изречение: познай самого себя, если оно принадлежит Фалесу, вероятно было дано в другой, чисто этической форме, приводимой Диогеном: „Труднее всего знать себя, а легче всего давать другим советы".
О египетском путешествии Фалеса более или менее сомнительные сведения сообщаются лишь позднейшими писателями, например, Диогеном Лаэртским. (По его словам, у Фалеса не было учителей, исключая того, что, приехав в Египет, он имел сношения с жрецами). Он же, со слов Иеронима, сообщает, что Фалес измерил высоту пирамиды по длине её тени, в момент, когда наша тень равна по длине нам самим; при этом вовсе не утверждается, что Фалес научил египтян подобному измерению (чему трудно поверить, зная искусство египетских практических геометров): такое утверждение делали другие писатели.
Учение Фалеса о воде, как начале всех вещей, было возобновлено значительно позднее (в эпоху Перикла) Гиппоном, философом, который, судя по отзыву Аристотеля, не пользовался влиянием. По словам Аристотеля, Гиппон считал душу веществом, подобным животному семени. Симплиций говорить о нем и о Фалесе одновременно, приписывая обоим мысль, что влажность семени указывает на происхождение всех вещей из влаги; Аристотель приписываешь это мнение Фалесу, лишь как свою догадку.)
Если вспомнить, что Фалес жил и действовал в Ионии, то уже это одно обстоятельство делает вероятным, что мысль о воде, как начале всех вещей, находится в связи с наблюдениями над морской стихией. Принадлежа к народу мореплавателей и притом к наиболее предприимчивой его ветви, Фалес легко мог придать более рациональный характер народным поверьям о могуществе моря, производящего из себя даже богов. Стоить прочесть Одиссею, чтобы понять, какую роль в жизни грека играло многошумное море; с детства он прислушивался к рокотанью его волн, слышал об отважных пловцах, видел товары, привезенные из далеких стран, знал о его физическом могуществе: еще в теогониях морю приписывалась способность производить землетрясения; обыденнейшее наблюдение над явлениями прилива, над образованием песчаных отмелей— все это могло навести на мысль, что море способно образовать землю, а раз явилась мысль о воде, как образующем начале, то конечно и реки, несущие ил, и дожди, питающие своей влагой растения, были приняты во внимание. Если признать за достоверное (а особенного основания для скептицизма здесь нет) известие о путешествии Фалеса в Египет, то значение Нила для этой страны могло окончательно утвердить Фалеса в мнении, что вода есть начало всего: хотя нет ни малейшей надобности принимать (вслед за Дрэпером), что Фалес только из Египта и мог вынести свое учение. Достаточно напомнить о том, что Фалес мог ежедневно наблюдать богатую илом реку Меандр, часто образующую грязевые наносы и островки, откуда мог вывести, что так образовалась и вся суша. Из оставшихся свидетельств невозможно прийти к выводу, как именно Фалес объяснял самый процесс происхождения всех вещей из воды. Мнение Виндельбанда, будто переход из одного состояния в другое сначала принимается, как «понятный без объяснения», неприменимо даже к мифу: так как миф уже пытается объяснить происхождение различных вещей из хаоса и мрака, именно таким образом, что уподобляет предполагаемый процесс превращения — процессу физиологического рождения, т. е. прибегает к грубому физическому антропоморфизму.
Несомненно, одно: а именно, что Фалес, подобно другим представителями милетской или ранней ионийской школы, принадлежали к числу гилозоистов, т. е. признавали вещество само подвижным и в этом смысле живыми, не испытывая потребности объяснить движение вещества какой-либо силою или иным невещественными началом. В этом смысле ионийские философы были представителями того наивного материализма, который тесно примыкает к мифологическому анимизму.
Здесь, как и в мифологии, мы видим тесное родство и смешение понятий о человекоподобных или, по крайней мере, связанных с человеком призраках и о живой, самодвижущейся материи. Подобно тому, как миф легко присоединяете к стихийным началами человеческие атрибутам, частью лишь сильно преувеличивая эти свойства, так и философия Фалеса, признавая воду—родом божественного начала, в тоже время населяла вселенную демонами и признавала присутствие души в магните и в янтаре, чем и объясняла притяжение ими тех или иных предметов. К сожалению, ровно ничего неизвестно на счет того, какое представление имел Фалес о душе, исключая того, что, очевидно, он считали ее невидимою причиною движения: приписывать этому взгляду значительную философскую глубину было бы неосновательно, так как он представляет явное сходство с некоторыми воззрениями, свойственными уже идеологическому миросозерцанию, которое считаете предметы, движущиеся по видимому сами собою (для которых нет видимой причины движения, вроде толчка или удара), живыми и в этом смысле одухотворенными: душа при этом смешивается с дыханием и вообще с жизнью. Отсюда один шаг (правда не маловажный) до признания души в предметах, приводящих в движение другие предметы, с которыми первые не связаны видимою связью (вроде, например, веревки). Таким образом взгляды Фалеса на магнитное притяжение представляют любопытный переход от народного анимизма к первым физическими наблюдениям п опытами; значение их в том, что здесь ясно высказано положение, которое сознается мифологическим творчеством лишь инстинктивно, по смутной аналогии с движениями, производимыми волею человека. Крайностью является мнение, признающее, что физическая теория Фалеса ничем не отличались от так называемой фетишизма: высказывая это, забывают, что в таком случае и многие гораздо позднейшие теории, относящаяся к магнитному притяжению, к движению светил и т. п., пришлось бы зачислить в разряд грубейших фетишистических представлений. Как только инстинктивное объяснение, не сознаваемое отчетливо, но навязываемое фактами и выражаемое лишь с помощью поэтических образов, заменяется сознательными обсуждением причины явления — то миф оканчивается, и начинается философия и наука; и в этом смысле, учение Фалеса, хотя еще состоящее в несомненном родстве с мифом, должно, действительно, считаться началом греческой философии.
Продолжателем Фалеса является Анаксимандр, и совершенно ошибочно, вслед за Риттером, Льюисом и др. выделять его из числа ионийских натурфилософов или считать основателем особой школы. Сведения о древних философских школах, конечно, не всегда могут считаться достоверными: но одно несомненно, а именно, что резкое деление на школы принадлежит гораздо позднейшему времени.
(Относительно Анаксимандра еще в древности высказывались мнения, из которых позднее вывели, что он считал свое «Беспредельное» родом смеси всех веществ; но такое мнение не имеет положительного основания. Приводя утверждение Аристотеля, забывают, что этот философ не мог отрешиться от своего собственного взгляда на возможность и действительность. Он говорил, поэтому, о начале Анаксимандра, как о содержащем в себе все вещи в возможности, но не на самом деле. Это возможная, но не действительная смесь. Относительно равновесия земли можно считать несомненным, что мысль о равном притяжении земного „цилиндра" со всех сторон была чужда Анаксимандру и что он, в лучшем случае, приписывал его равномерному давлению, а может быть и просто успокоился на мысли, что по причине равенства расстояний нет основания для движения земли в какую-либо сторону. (Arist. de coelo говорит просто: διά τήν όμοιότητα — по причине равномерности, а у Феофраста сказано διά τήν όμοϊαν πάντων άπόδαδιν —по причине равного от всех расстояния). Это единственная мысль, в которой можно видеть подобие „математического метода". Относительно зачаточной идеи биологической эволюции, находим сведения, указанные в тексте на основании исследований Целлера. Конечно, встречаются у древних авторов и иные сведения, но к сожалению, у тех писателей, которые не заслуживают особого доверия. Любопытно, что Гегель, излагая учение Анаксимандра, и в этом случае поспешил выразить свое отвращение к биологической идее развития. (Gesch. d. Ph. 206). По его словам: „Анаксимандр производит человека из рыбы и заставляешь выйти из воды на сушу. Происхождение (Hervorgehen) встречается и в новейшее время, как простое последование во времени, —форма, с помощью которой часто думают сказать нечто блестящее; но нет никакой необходимости, чтобы в этом содержалась какая-либо мысль и еще менее того—понятие". С этим можно было бы согласиться, если бы идея развития основывалась, действительно, исключительно на идее последовательности во времени или если бы простая последовательность принималась за доказательство происхождения: против этого смешения понятий высказался, как мы видели, уже Фалес, когда ответил на вопрос: родился ли день от ночи или ночь от дня. Но думать, подобно Гегелю, что „время не представляет никакого интереса для мысли", значить приводить идею развития к пустым диалектическим фокусам, действительно могущим совершаться и вне времени, вроде синтеза отрицания с положением. То обстоятельство, что время (по Канту) есть субъективная форма чувственной интуиции, нимало не отнимает у него объективного значения, как переменного независимого, к которому относят всякое вообще изменение.)
Аристотель, вообще самый надежный из всех древних историков философии, не только ничего не знает о разделении ионийской школы на два направления и о противоположении Анаксимандра—Фалесу, но, наоборот, категорическими образом причисляет Анаксимандра к гилозоистами, т. е. приписывает ему, наравне с Фалесом, мнение, что материя сама по себе может обладать характером самоподвижности и в этом смысле оказывается родом живого существа. Поэтому, придуманное Риттером деление ионических философов на динамиков (или точнее гилозоистов) и механиков, при чем последние, с Анаксимандром во главе, будто бы ищут внешней чисто механической причины движения, не выдерживает критики. Правда приписывание движения внешнему толчку коренится в инстинктивном объяснении, предшествующем даже анимизму. Собака убегает, видя, что мы нагибаемся с целью поднять камень, так как по опыту знает, что за поднятием камня и движением руки последует полет камня, могущий причинить eй боль: и конечно, никто не станет утверждать, что такое отношение к ожидаемому движению зависит от смешения камня с живым существом пли от того, что собака представляет себе камень, населенный собакоподобным или хотя бы человекоподобным призраком. Но по мере развития сознания, из инстинктивных импульсов вырабатывается то, что называют разумным отношением к явлению, а это и есть сознательная попытка к его объяснению: и механическое объяснение движения, в зависимости от внешнего импульса, без сомнения так же (если не более) старо, как и представление о самоподвижности живых существ. Самый малоразвитый человек по опыту знает, что и он сам не всегда движется по собственному импульсу, но может быть движим извне, когда его, например, несут или, когда ему приходится бороться с волнами. Но это объяснение постоянно сливается с анимистическими представлениями, так как всякий более или менее могущественный механический деятель, в особенности такой, который редко пребывает в состоянии видимого покоя, наделяется вместе со свойством самоподвижности и другими свойствами живых существ. Поэтому, о строго механическом объяснении сначала не может быть речи.
Крупный шаг, по сравнению с Фалесом, был сделан Анаксимандром не в смысле отречения от гилозоизма, представляющего развитие анимистического миросозерцания, но в том отношении, что Анаксимандр ввел начало, более абстрактное, нежели то, которое было предложено Фалесом. С этим, конечно, согласны все историки философии; но отношение их к началу, допущенному Анаксимандром, чрезвычайно различно, так как одни видят в «беспредельном» Анаксимандра чистую абстракцию, не имеющую ничего общего с данными опыта, другие считают это беспредельное—научным понятием, сходными пли даже тожественным с математической бесконечностью. Конечно, более правы те, которые, вслед за Аристотелем, отличают принцип Анаксимандра от начала, принятого Фалесом, лишь по степени абстракции, но не как нечто, не имеющее ничего общего с вещественным началом. «Беспредельное» Анаксимандра представляет не что иное, как пространственно неограниченное вещество, неопределенное в качественном отношении, но во всяком случай не имеющее ничего общего с бестелесными или духовными началами позднейшей философии. Вещество это ближе всего сходно с древними мифологическим Хаосом, отличаясь от него лишь большею ясностью представленья. Подобно Хаосу, оно представляет не смешение каких-либо определённых веществ, но нечто, содержащее в себе зачатки или возможность образования всех веществ, которые мало по малу и выделяются из первоначальной неопределенности. Без сомнения, образованию этого понятия содействовал у Анаксимандра и чисто логический процесс абстракции. Из сохранившихся слов самого Анаксимандра достоверно известно, что этот философ признал начало всех вещей беспредельным, исходя из вполне определенного отношения к вопросам генезиса. Начало всего существующего, говорит он, должно быть беспредельным для того, чтобы происхождение или рождение (генезис) вещей не прекратилось; другими словами, бесконечное разнообразие и непрерывное возникновение все новых предметов, требует, по мнению Анаксимандра, неограниченного источника: мысль о происхождении бесчисленных форм, путем всего нового комбинирования конечного числа элементов, ему вполне чужда.
Хотя, по недостатку данных, невозможно определить, как именно Анаксимандр представляли себе процесс выделения различных вещей из «беспредельного», однако ясно, по крайней мере, что он руководствовался не одними приведенными выше логическими построениями, но и грубыми физическими наблюдениями; не менее очевидно и то, что его учение было не совершенной противоположностью натурфилософии Фалеса, но, наоборот, стремилось лишь к расширенно этой последней. «Беспредельное» не исключает основного начала, данного Фалесом, но лишь придает воде, вместо первичного, производное значение. Прежде всего, из беспредельного выделяются теплое и холодное: смешение того и другого дает жидкое и, главными образом, воду; из этого жидкого начала, возвращающего нас к космогонии Фалеса, выделяются земля и огненное вещество, род шаровой оболочки, окружающей, по-видимому, земную атмосферу. Из этой огненной оболочки, Анаксимандр производит светила. Гегель сопоставляет (хотя и с некоторой натяжкой) эту космогонию с воззрениями Бюффона на происхождение планет от солнца, выбрасывающего их, подобно шлакам. Восстановить в целости физико астрономическую гипотезу Анаксимандра нелегко, так как уже в древности она излагалась различными писателями неодинаково. Наиболее достоверные показания сводятся к тому, что Анаксимандр представляли себе образование солнца п других светил путем разрыва первичной огненной сферы или сферической оболочки, причем огненные обрывки или обломки замкнулись в колесовидные воздушные оболочки, из которых огонь истекает сквозь отверстия; когда эти отверстия почему-либо закупориваются, то происходят солнечный и лунные затмения, а также фазы луны. Мысль о колесовидной форме оболочек, по видимому, была внушена Анаксимандру сравнением солнечного диска с колесом, при чем спицы колеса представляли аналогию с расходящимися лучами солнца,
По образовании светил, солнечная теплота высушила землю, светила же стали вращаться вокруг земли, увлекаемые воздушными течениями, образующимися в тех самых колесовидных воздушных оболочках, из которых истекает свет светил или, точнее, их огонь. Эти физические объяснения, по-видимому, не мешали Анаксимандру считать светила божествами.
Земля, обсушенная солнцем, выделила сушу, оставшаяся же жидкой часть стала горькой и соленой и образовала море. Форму земли Анаксимандр считал цилиндрической, причем, по причинам, которые трудно выяснить, принимал, что ширина (диаметр основания) этого цилиндра втрое более его высоты. В то время как Фалес представлял себе землю вроде плавучего острова, считая море её поддержкой, т. е. основывался на непосредственном впечатлении, доставленном ему многочисленными греческими островами, Анаксимандр н в этом отношении сделал шаг вперед, представляя себе землю висячею в центре вселенной. Довольно замечательно представление его о причине, удерживающей земной «цилиндр» в равновесии.
Он утверждал, что равновесие это обусловливается равенством расстояний от границ вселенной; каким образом это представление мирилось с понятием о беспредельном — решить трудно, и может быть при этом Анаксимандр подразумевал лишь равенство расстояний от пределов земной атмосферы, которая и поддерживала землю с обеих сторон. В этом представлении важнее всего то, что у Анаксимандра значительно совершенствуется обыденное представление о верхе и низе и вселенная рассматривается не как полушар, не как купол, покрывающий плоскую земную доску, а как шаровидное тело, со всех сторон окружающее земной цилиндр.
Особое внимание обратили на себя в новейшее время взгляды Анаксимандра на происхождение живых существ, и некоторые историки не колеблясь признали Анаксимандра первыми из предшественников Дарвина. Мнение это, в основе справедливое, иногда излагается в крайне преувеличенном виде, и даже с фактической стороны взгляды Анаксимандра часто передаются неточно, особенно авторами, не читавшими греческих текстов. Наиболее достоверны сведения, приписывающие Анаксимандру мнение, что под влиянием солнечного жара произошли различные животные из первичного ила. Первые люди образовались внутри рыбообразных существ (иногда неточно утверждают, что, по мнению Анаксимандра, люди были сначала рыбами) и жили в воде; лишь когда люди выросли настолько, что могли существовать и кормиться самостоятельно на земле, они вышли на сушу и сбросили свою рыбью оболочку. Образовались ли, по Анаксимандру, таким же образом и другие сухопутным животные, остается сомнительным, так как подобное утверждение приписывается ему лишь довольно ненадежным авторитетом (оно указано в сочинении псевдоПлутарха), хотя невероятного в этом ничего нет, так как аналогия сухопутных животных с человеком могла очень легко представиться. Как бы то ни было, процесс превращения водяных существ в сухопутные представлялся Анаксимандру чем-то вроде линяния или сбрасывания кожи, явление, с которыми он легко мог ознакомиться из наблюдения над некоторыми очень обыкновенными морскими и сухопутными животными. Заслугою Анаксимандра является, во всяком случай, первая смутная мысль о естественном происхождении одних существ от других, живших в иных условиях и, в силу этого, отличавшихся по крайней мере своею внешнею формою—или хотя бы заключенных в иную шкуру.
В то время как некоторые авторы пытались выделить Анаксимандра из числа ионийских натурфилософов, все историки философии единогласно помещают Анаксимена в одну группу с Фалесом, причем некоторые отказываются видеть в Анаксимене продолжателя Анаксимандра, другие видят в его философии даже шаг назад, третьи утверждают, что Анаксимен хронологически предшествовал Анаксимандру. Это последнее утверждение противоречит наиболее достоверным показаниям древних писателей, а потому может быть оставлено в стороне. Что же касается полной независимости Анаксимена от Анаксимандра или же, по другому мнению, отсталого характера его философии, то оба утверждения преувеличены; можно только сказать, что Анаксимен по оригинальности взглядов уступаете и Фалесу, и Анаксимандру, отличаясь некоторой склонностью к эклектизму. Фалес, по замечанию древнего историка, Диогена Лаэртского, был мудрец вполне самобытный, ни у кого не учившийся и заимствовавший (да и то, не наверное) лишь кое-что у египтян; Анаксимандр, несомненно знакомый с учением Фалеса, проявил, однако, значительную оригинальность и во многом пошел гораздо дальше. Анаксимен, наоборот, пытался главным образом примирить взгляды обоих своих предшественников; оригинальность его проявляется почти исключительно в том, что началом всех вещей он принял воздух, игравший значительную роль уже в физико астрономических гипотезах Анаксимандра. Зависимость Анаксимена от Анаксимандра неоспоримо доказывается тем, что первый заимствует у своего предшественника понятие о беспредельном, причем, однако, вместо неопределенного вещества подставляет воздух, который и представляется ему не имеющим границ. Вполне оригинальным воззрением можно считать то, что вместо совершенно неопределенного понятия о выделении, какое мы видим у Анаксимандра, его преемник вводите понятие о сгущении и разрежении воздуха. Сравнение признаков, которыми снабжает Анаксимандр свое «беспредельное», с теми, которые приписывает Анаксимен воздуху, указываете на некоторый шаг вперед, так как смутная метафизическая точка зрения, довольно ясная у Анаксимандра, здесь вытесняется ясными физическими представлениями. У Анаксимандра «Беспредельное» не только невидимо, неразрушимо, нерождаемо и бессмертно, но и божественно в том смысле, что обнимает собою все и управляет движениями всех вещей; Анаксимен, описывая признаки воздуха, ограничивается замечанием, что воздух невидим, но проявляется действием тепла, холода и производимых им движений. Приписываемое же Анаксимену утверждение позднейших писателей, что воздух бестелесен, лишено всякого основания. Точно так же ошибочно мнение Рёта, будто Анаксимен был первыми «спиритуалистом», если только не понимать слово spiritus—дух, в грубо материальном смысле вдыхаемого или выдыхаемого воздуха; это явление дыхания играло немалую роль даже в мифах не осталось без влияния на воззрения Анаксимена. Именно здесь следует, по всей вероятности, видеть причину, почему разрежение Анаксимен сопоставлял с нагреванием, а сгущение с охлаждением. Он знал по опыту, что при сжимании губ и сильном дутье ими получается холодная струя воздуха, тогда как если подышать открытым ртом, то воздух окажется теплыми: отсюда путем довольно грубого умозаключения и было выведено, что сжатие равносильно холоду, а расширение теплу, на что Аристотель возразил, что теплый воздух выходит из теплых внутренних полостей человека, а вовсе не получается вследствие расширения рта.
(Об Анаксимене вообще спорили гораздо меньше, чем об Анаксимандре. Однако уже Брандис и Риттер придумали, будто этот философ отличал воздух, как начало вещей, от атмосферного воздуха. Никаких серьезных доказательств в пользу этого положения привести нельзя, а из того, что известно со слов Гипполита (Refnt. И, 7) ясно лишь одно: что Анаксимен воспользовался принципом Анаксимандра, признав воздух беспредельным (άέρα άπειρον έφη αρχήν εϊνα) и что свойства (είδος буквально—вид) этого воздуха таковы, что целиком относятся и к атмосферному воздуху (он невидим, но проявляется посредством тепла, холода и производимого им движения). Шлейхмюллер приписывает этому „воздуху" вращательные вихревые движения, но и на это нет определенных указаний: ясно только, что подвижность воздуха представлялась Анаксимену доказательством возможности произвести из этого начала различные формы. Единственный дошедший до нас подлинный отрывок из сочинения Анаксимена (сохраненный псевдоПлутархом в Placita) имеет явно антропоморфический характер: воздух здесь сравнивается с нашей душою, и подобно тому как наша душа (дух или, еще проще, дыхание) сдерживает (δυϒϰρατεϊ) нас, так и дуновенье (πνεϋμα) и воздух охватывает весь мир". Слово „сдерживает" допускает здесь различные толкования: быть может, Анаксимен имел в виду то, что с прекращением дыхания, т. е. после смерти, наше тело разлагается и распадается; может быть речь идет и о том, что наше дыхание, по его мнению, управляет нашей деятельностью, и точно также воздух управляет всем миром. Одно ясно, а именно, что Анаксимен не приписывал воздуху духовную природу, как полагает Рет (Roth Gesch. unls, abendland. Philos. II, 250), но, наоборот, считал душу материальным существом, подобным воздуху, в чем он сходился с народной мифологией, как она выразилась например в гомерических рапсодиях. У Гомера душа вылетает через рану убитого (Илиада ХVI, 505, 856 и XXII, 362) и отличается от тела своим воздушными характером и туманными очертаниями. Сам человек (аuтоs) противополагается его душе (ψυχή), представляющей род двойника, тени или призрака, видимого в сновидении. Из этого видно, что понятия о душе были сначала крайне смутны. Душа смешивалась с жизнью и с кровью (сравн. приведенные места у Гомера). У арабов существует выражение: „душа течет из его раны". Сюда же относится обычай арабов и других племен пить кровь при заключении торжественного договора (см., например, у Геродота III, 8) и отчасти обычай пожирать сердце врага (биение сердца, как признак жизни и души). Некоторые племена помещают жизнь в печени, диафрагме, груди (легких); замечательно, что функции мозга и нервов обращают на себя внимание лишь гораздо позднее. О связи души с дыханием будет сказано подробно в главе об анимизме. Замечательны, например, полинезийские выражения: у маори слово манауа означает живот, сердце, дыхание, местопребывание чувств; у самоанцев манауа значить дышать; манату—мысль; у таитян манава—живот, нутро; манава нсира—размышлять; у гавайцев манава—чувство, дух, призрак. (Макс Мюллер).
Придя к мысли, что разрежение связано с теплом, не трудно было вывести, что сильно разреженный воздух дает огонь; точно также Анаксимен вывели, что при сгущении воздух образует тучи, воду, землю и океан. Изучая свойства воздуха и заметив, что он легко поддерживает тонкие и в тоже время плоские предметы, обладающие большой поверхностью, Анаксимен отказался от толстой цилиндрической формы, приписанной земле Анаксимандром, и признал землю подобною тонкой доске, поддерживаемой воздухом; точно также воздух поддерживает солнце, луну и планеты. Что касается неподвижных звезд, он считал их прикрепленными к небесному своду — представление грубое и напоминающее египетские «небесные лампы», но долго удержавшееся в древности, по своей простоте и наглядности.
Теперь не трудно объяснить взаимные отношения между первыми ионийскими философами. Родство философии с мифом на первых порах её развития выражается уже в том, что первые греческие философы были поэтами и излагали свои умозрения не только прямо стихами, но и в поэтической форме, т. е. прибегая к образам. С этой точки зрения, следует придать некоторое значение и тому обстоятельству, что Анаксимен был одним из первых греческих прозаиков и, по словами древних, писал на простом и безыскусственном ионийском наречии. Наоборот, предшественник его Анаксимандр, хотя и его давно пропавшее сочинение о природе было написано прозою, прибегал еще очень часто к поэтической терминологии, под которою не всегда легко угадать его настоящую мысль, чем и объясняются, даже помимо скудости источников, многие разногласия позднейших писавших о нем авторов.
Сюда относится, между прочими, его учение об уничтожении и возникновении новых миров, а также о нравственной стороне физических превращений. Все вещи, но словам Анаксимандра, происходят из чего-либо другого, и должны опять возвратиться к прежнему состоянию, потому что они должны понести возмездие за свою несправедливость, т. е. за уничтожение других вещей; ту же точку зрения, по-видимому, он применил и ко всей вселенной, которая должна рано или поздно уничтожиться и дать начало новыми мирам. Все вещи определены во времени по происхождению, существованию и погибели. Как понять все эти изречения—решить трудно, но все-таки нельзя не видеть в них смешения мифологических и поэтических образов с более зрелым мышлением. У Анаксимандра, по-видимому, соединились и древние понятия о возмездии, немногими отличавшиеся от родовой мести убийце, и представление о непреодолимом роке, свойственное уже мифологическому миросозерцанию, и более научные понятия об определенном и неизменном естественном ходе событий. Мифологические представления, без сомнения, не были чужды и Анаксимену: так, например, есть известия, показывающие, что он считал светила божественными существами; однако в его прозаической философии чаще виден физик, нежели мифолог. Да и в чисто научном отношении Анаксимену приписывают некоторый шаг вперед, по сравнены с Анаксимандром. Диоген Лаэртский, по-видимому, ошибается, приписывая уже Анаксимандру (вместо Анаксимена) мнение, что луна светит светом, заимствованными от солнца. Приписываемое Анаксимандру изобретение гномона, быть может, и сделано ими самостоятельно, хотя, конечно, в этом случае его на несколько веков предварили халдеи. Что касается его математических познаний, они по-видимому, были довольно обширны для своего времени, однако нет определенных сведений о его математических открытиях, тогда как Фалесу очень многие древние авторы приписывании изобретение вполне определенных теорем. Хотя трудно думать, чтобы некоторые из этих теорем были неизвестны египтянам и даже халдеям, однако, не следует забывать, что ни в Египте, ни в Халдее геометрия не существовала, как теоретическая наука, и свойства фигур там не доказывались, а узнавались наглядными способом; поэтому, вполне допустимо, что Фалес придумал свои доказательства совершенно самостоятельно, при чем я считаю второстепенным то обстоятельство, что самая поездка его в Египет—далеко не доказанный исторический факт: даже если признать, что Фалес имел сношения с египетскими жрецами, все таки нельзя утверждать, чтобы эти жрецы научили его геометрическим доказательствами.
Как бы то ни было, о математических открытиях Фалеса говорят почти все древние писатели, но умалчивают о теоремах, открытых Анаксимандром: это одно показывает, как мало основания противополагать Анаксимандра Фалесу, признавая первого главою «математической» школы. О практических математических работах Анаксимандра известно лишь, что он составили подобие географической карты: физические же его теории, большею частью, менее совершенны, чем взгляды его преемника Анаксимена. Заслугою Анаксимандра является, главными образом, установление понятия о беспредельном. Хотя это понятие и не могло особенно подвинуть вперед физику и космографию и по своей неопределенности не может считаться сходным с современными и даже демокритовским понятием о материи, но философское значение его, несомненно. «Беспредельное» Анаксимандра подготовило почву для научного понятия о бесконечности. Это, однако, не дает нам права выделять Анаксимандра из числа ионийских натурфилософов, к которыми он принадлежите по своим космогоническим теориям.
Общий результата ионийской натурфилософии сводится, поэтому к следующему: Фалес впервые пытается свести все явления к одному началу, при чем избирает то, которое естественнее всего представлялось по географическим условиям его родины, именно— воду. Анаксимандр делает шаг вперед, вводя более абстрактное беспредельное начало, имеющее, однако, явный физический характер, это начало остается самоподвижным и живым, и движение его, поэтому, не определяется внешними механическими причинами. Наконец третий крупный ионийский философ, Анаксимен, признает воздух началом, удовлетворяющим требованиям Анаксимандра. Менее оригинальный, чем Фалес и Анаксимандр, Анаксимен стремится к объединению предшествующих взглядов и частью к более популярной переработке учения Анаксимандра; но в деле исследования природы ему принадлежали и некоторые самостоятельные шаги: поэтому, было бы неправильно считать его учение возвращением назад.
Отличаясь довольно наивным реалистическим направлением; ионийская натурфилософия, в общем, представляет крупное явление в истории мысли, так как здесь впервые мы видим, хотя постепенное и не вполне ясно сознанное самими натурфилософами, отделение философии от мифа.