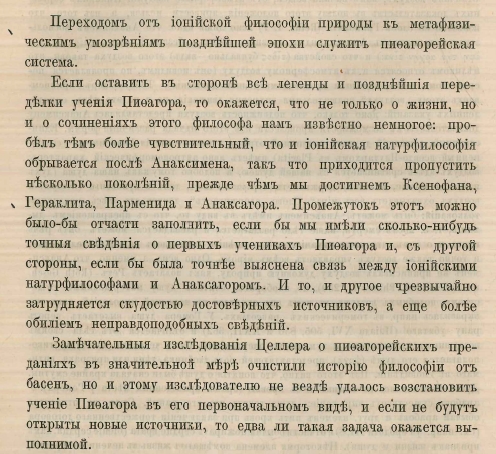
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Переходом от ионийской философии природы к метафизическим умозрениям позднейшей эпохи служит пифагорейская система.
Если оставить в стороне все легенды и позднейшие переделки учения Пифагора, то окажется, что не только о жизни, но и о сочинениях этого философа нам известно немногое: пробел тем более чувствительный, что и ионийская натурфилософия обрывается после Анаксимена, так что приходится пропустить несколько поколений, прежде чем мы достигнем Ксенофана, Гераклита, Парменида и Анаксагора. Промежуток этот можно было-бы отчасти заполнить, если бы мы имели сколько-нибудь точные сведения о первых учениках Пифагора и, с другой стороны, если бы была точнее выяснена связь между ионийскими натурфилософами и Анаксагором. И то, и другое чрезвычайно затрудняется скудостью достоверных источников, а еще более обилием неправдоподобных сведений.
Замечательные исследования Целлера о пифагорейских преданиях в значительной мере очистили историю философии от басен, но и этому исследователю не везде удалось восстановить учение Пифагора в его первоначальном виде, и если не будут открыты новые источники, то едва ли такая задача окажется выполнимой.
Ограничиваясь сколько-нибудь правдоподобными данными, даже при самом осмотрительном выборе, нет возможности сказать, что именно принадлежит Пифагору и что его ближайшими учениками. По этой причине, здесь будет идти речь не о философии Пифагора, а вообще о древнейшем пифагореизме, который
необходимо отличать от позднейших новопифагорейских учений, и близко родственных с так называемыми новоплатонизмом. Только ради удобства, я буду употреблять иногда выражение: учение Пифагора, причем необходимо помнить, что под этим не подразумевается точное выделение личного элемента, принадлежащего основателю учения. Впрочем, это едва ли особенно важно, если вспомним, как велик был у пифагорейцев авторитета учителя. Очень возможно, что прибавки, сделанные его первыми учениками, были не особенно существенны, или, по крайней мере, не исказили первоначальный смысл учения.
Пифагореизм важен для нас в двух отношениях. Прежде всего, он представляете переход от наивного реализма ионийской натурфилософии к идеализму Платона, т. е. к наиболее идеалистической системе всей греческой философы; затем, учение Пифагора представляет первую попытку формулировать законы явлений на основаны чисто количественного принципа, в противоположность качественными определениям ионийской школы. Как уже было выяснено, из этой последней нельзя исключить и Анаксимандра: так, как и у этого философа основное начало -его «беспредельное», имеет не математический, а физический характер представляя неограниченное по размерам, самоподвижное и саморазвивающееся вещество. У пифагорейцев мы видим, наоборот, чисто математические, именно арифметические определения: в роли мирового начала фигурируете число. Резкость перехода от физики ионийцев к математике Пифагора, впрочем, смягчается теми взглядами, которые существовали у пифагорейцев относительно чисел. Значение пифагоровой «теории чисел» было предметом споров еще в древности. Позднейшие писатели упрекали, например, Аристотеля в том, что он не понял и исказил систему Пифагора. Некоторые новейшие историки, в свою очередь, пытались доказать, что учение о числах следует понимать в символическом смысле: другие доказывали, что у самого Аристотеля есть противоречивые показания на этот счет. На самом деле, смысл учения Пифагора о числах довольно ясен и едва ли отличается от того, который был ему придан Аристотелем.
Занятия Пифагора теорией музыки и астрономией, в связи с его арифметическими и геометрическими работами, привели его к мысли, что существенную сторону всех наблюдаемых явлений составляют количественный соотношения. Философское умозрение, не успевшее еще освободиться от влияния мифа, не могло усвоить подобное абстрактное положение в том неприкрашенном виде, в каком оно представляется современному естествоиспытателю. Возникающее представление о естественном порядке вещей легко смешивалось с мифологическими началами, в которых уже была смесь естественная с чудесными. Эти противоречивые начала и слились в полумистическом, полуфизическом понятии о числе, как мировом законе и основной сущности всех вещей. Все есть число—такова туманная основа пифагореизма, и было бы напрасно искать ясных и отчетливых понятий там, где их и быть не могло по самому характеру учения. Заметим, что известные численные соотношения определяют характер тех или иных физических явлений, пифагорейцы вывели отсюда, что эти соотношения представляют собою чисто объективные реальности, существующие независимо от нашего познавательного акта, о котором они имели лишь смутное понятие. Эти реальности стали, в их глазах, выше всех прочих, они-то и были для них настоящею действительностью; отсюда и явилась мысль, что для исследования действительного мира необходимо и достаточно всестороннее изучение свойств чисел. Таким образом, пифагорейские числа представляют, как раз промежуточное звено между «началами» ионийцев и «идеями» Платона.
Опасная сторона полунаучного, полумистического учения о числах слишком очевидна. Едва ли стоит доказывать, что когда чисто математические объяснения забегают впереди явлений, то, при несовершенном состоянии самой математики и физических наук, это легко приводили к замене действительных соотношений такими символами, которые не соответствуют никакой действительности. Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы сами пифагорейцы, на первых же порах, придавали своему учению символическое значение. Совершенно наоборот, они глубоко были убеждены в полной реальности своих построений, в полном соответствии их с окружающими явлениями; убеждение их было так сильно, что когда в их схемах оказывался пробел, недопустимый по теории, то они заполняли его и признавали, что недостающей член схемы имеет такой же несомненно реальный характер, как и все наличные члены. Так, по их теории, десять есть совершенное число: отсюда они вывели, что число светил (со включением рассматриваемой, как одно целое, сферы неподвижных звезд, а также солнца н луны) должно быть равно десяти, а так как наблюдали меньшее число, то и придумали воображаемую планету—противоземлю (Антихтон).
Понятие о совершенстве было распространено и на геометрические представления. Совершеннейшею фигурою представлялся шар, а потому и все мироздание изображалось в виде сферы; в центре её находился воображаемый центральный огонь, род светила, вокруг которого обращаются все небесные тела: далее всего находится звездное небо, с прикрепленными к нему звездами, затем пять планет, потом следуют солнце, луна и земля; наконец, против земли находится Антихтон (противоземля).
Как было уже замечено, самые числа имели у пифагорейцев не символический, а физический характер; понятие о числе постоянно смешивалось с понятием о веществе. В этом можно видеть точку соприкосновения с ионийцами: однако, сравнительная абстрактность принципа проявляется в том, что у Пифагорейцев вещество, становясь числом, развивается только как число. Центральное огненное тело, средоточие всей вселенной, в тоже время было основной единицей или монадой, первым мировым телом; вследствие связи физических представлений с мифологическими, оно оказывалось и матерью богов. Действительно, из центрального огня возникли все небесные тела, а так как светила признавались богами и, с другой стороны, акт возникновения сравнивался с актом деторождения, то отсюда и явилось смешение представлений о центральном светиле н о матери богов. Но самый акт возникновения и развития, имеющий у ионийцев, не исключая Анаксимандра, характер чисто физического процесса (например, разделения на теплое и холодное, сгущения и разрежения и т. д.), у пифагорейцев превращается в арифметический акт счисления. Это значительный шаг вперед по сравнению с ионийцами, с точки зрения абстрактности; но в то же время—шаг назад, потому что, не имея под собою прочной физической почвы, пифагорейская теория чисел скоро должна была выродиться в пустую игру. Произвольные определения и рискованные аналогии, придуманные пифагорейцами, представляют древнейший пример мистической натурфилософской системы, во многом напоминающей даже такие недавние явления, какова немецкая натурфилософия начала нашего века. Так уже у пифагорейцев мы видим мысль, что все существующее образуется из соединения противоположностей, какими являются ограниченное и неограниченное, нечетное и четное, единичное и множественное, правое и левое, мужское и женское, покой и движение, прямое и кривое, свет и тьма, благое и злое, и даже квадратное и прямоугольное. Здесь же мы видим и проведение аналогий между вещами и понятиями, находящимися в самом отдаленном соотношении между собою. Так нечетное сопоставляется с ограниченным и в тоже время с совершенными, четное - с неограниченными и несовершенными. Нечетное число, как более совершенное, сопоставляется с мужским, что понятно, если вспомним об отсутствии у греков в исторические времена гинекократии, т. е. владычества женщин: греческие путешественники находили, например, что у египтян женщина пользуется слишком значительным преобладанием в домашней жизни. Правда, существуют предания о том, что у Пифагора были не только ученики, но и ученицы, что его жена писала философские трактаты и что женщины в пифагорейском союзе пользовались большим почетом и значением: однако, философские преставления пифагорейцев не успели освободиться от мысли о превосходстве мужского элемента.
Арифметический характер пифагорейского учения привел к представлению о единице или монаде, как основном начале всех вещей. Из этой монады возникает «неопределенная диада», т. е. двоица, подчиненная монаде; из монады и диады образуются и другие числа, из чисел точки, из точек линии, из линий плоские фигуры, из этих последних —пространственные
фигуры (геометрические тела); из геометрических тел пифагорейцы, по-видимому, производили стихии или начала, подобные тем, которые существовали у ионийцев, т. е. воду, воздух, огонь и землю; к сожалению, как раз об этой физической стороне учения пифагорейцев известно немногое, и здесь труднее всего отличить, что было примешано позднейшими наслоениями. Несомненно, одно, что у пифагорейцев учение об изменяемости и развиты мира превратилось в математическую абстракцию, дополняемую лишь эстетическими и этическими соображениями. Так, по показанию Аристотеля, пифагорейцы отрицали, чтобы лучшее и прекраснейшее могло существовать с самого начала: отсюда явилась необходимость в развитии, но оно достигалось путем простого превращения монады в диаду и затем путем появления целого ряда чисел и производных от них понятий. Да и вообще пифагорейцев интересовало не столько изменение, сколько гармония мироздания, до некоторой степени предваряющая предустановленную гармонию Лейбница: впрочем, и учение о монаде частью предварило монадологию того же философа. Положение: все есть число, дополнялось у пифагорейцев утверждением, что все есть гармония, и в этом нельзя видеть нелогичности или противоречия; наоборот, такой взгляд явился последствием как раз той стороны пифагорейских исследований, которая имела наиболее научное значение. Известно, что пифагорейцам принадлежит открытие числовых соотношений между длинами струн, дающих различные музыкальные тоны. Отношение между данным тоном и его октавой было, естественным образом, принято в основание теории музыкальной гармонии, а затем, когда найдены были числа, выражающие другие музыкальные интервалы, то естественно явилась мысль, что все, вообще, музыкальные звуки находятся в тесной связи с четными и нечетными числами: в тоже время возникло убеждение, что, обратно, всякое число, а поэтому и всякое физическое явление, есть определенная гармония между четным и нечетным.
Как ни туманно основание пифагорейской системы, как ни нелепы её отдельные частности, было бы ошибкой утверждать, что учение Пифагора представляет чисто отрицательную величину.
Положительную его сторону составляют не только такие физические исследования, при которых мы видим первые научно поставленные опыты, — даже количественные измерения (измерение длины струн , дающих разные тоны), но и те отвлеченные умозрения, которые привели пифагорейцев к утверждению шарообразности земли и к другим астрономическим теориям , значительно превосходящим не только наивные воззрения ионийской школы, но и взгляды позднейших древнегреческих философов , не исключая Аристотеля. Шарообразность земли, несомненно, была выведена пифагорейцами из чисто теоретических соображений, к сожалению, не дошедших до нас в подробностях; известно, однако, что они утверждали существование антиподов; им было уже известно наклонное положение земной оси, служившее им для объяснения времен года. Еще не зная о вращении земли вокруг оси, первые пифагорейцы, однако, уже не признавали землю центром вселенной, и если не сам Пифагор, то его ученики, не позднее V столетия до начала нашей эры, уже, наверное, признавали, что земля не находится в покое, но обращается вокруг центрального огня: а отсюда только шаг до признания обращения земли вокруг солнца, так как величайшим усилием мысли было отрешиться от идеи неподвижности земли. Солнце и луну пифагорейцы представляли себе в виде прозрачных шаров, причем предполагалось, что луна получает свет частью от солнца, частью от воображаемого центрального огня.
Менее значения имеют биологические умозрения пифагорейцев: однако, и здесь мы видим, что привычка к абстрактному мышлению не всегда приводила их лишь к бесплодным мистическим умозрениям, и что некоторые из их догадок крайне замечательны для своего времени. Сюда относится, в особенности, приводимое Диогеном Лаэртским утверждение пифагорейцев, которое можно сопоставить с далеко позднейшим положением новейшей науки, а именно с утверждением, что все живое происходить из яйца: различие лишь в том, что пифагорейцы, считая мужской элемент преобладающим вместо яйца говорили о семени и учили, что все живые существа (а сюда они причисляли и животных, и растения) рождаются друг от друга посредством семян. Из дальнейшего пояснения, приводимого тем же Диогеном Лаэртским, можно далее вывести, что это утверждение противопоставлялось пифагорейцами теории самопроизвольного зарождения, так как, по его словам, они считали невозможными рождение живых существ из земли. Это следует, впрочем, сопоставить с другими утверждениями, приводимые тем же писателем, который, вообще, без всякой критики компилировал все, попадавшиеся ему под руку сведения. Сопоставление показываете, что основными элементом жизни пифагорейцы, по-видимому, считали теплоту и что происхождение живых существ из земли отвергалось, главным образом, по той причине, что земля сама по себе не считалась источником тепла, которое получала от солнца, а солнце, в свою очередь, получает тепло от центрального огня. Известная доля тепла, по видимому, приписывалась и луне, получающей его, в свою очередь, от солнца и от центрального источника.—Само собою разумеется, что в области психологии пифагорейцы лишь немногим отличались от ионийцев и, во всяком случае, представляли себе душу в чисто вещественном виде; в этом случае мы имеем ясное указание Аристотеля, который прямо утверждает, что пифагорейцы считали, например, пылинки, наблюдаемые при прохождении солнечных лучей в комнату, душами; с другой стороны, у Диогена Лаэртского мы находим утверждение, что, по учению Пифагора, лучи, проникая в глубь, оживляют все. Хотя жизнь, по видимому, была отличаема от души, так что растения считались живыми, но неодушевленными,—однако и душа представлялась в виде тонкого эфирного вещества: что же касается бессмертия души, оно признавалось пифагорейцами в форме переселения душ из одних живых существ в другие, причем , по показанию того же Диогена Лаэртского, душа признавалась замкнутой в жилы (вены и артерии) и нервы, а после смерти человека или животного, предполагалось, что она странствует в воздухе «подобная телу»; по этой причине воздух признавался наполненными душами, демонами и призраками героев ; эти призраки являются во сне, служат предзнаменованиями болезни и здоровья; такие призраки свойственны не только людям , но и животным - мнение, основанное, вероятно, как на аналогии тела животных с телом человека, так и на том наблюдении, что животные грезят во сне: например собаки часто лают или визжат со сна.
В связи с этой верой в призраки, находились у пифагорейцев их прорицания, предзнаменования и некоторые очистительные обряды.
В пифагорейском учении, насколько мы способны судить о нем, по дошедшим сведениям, оказывается, таким образом, пестрая смесь первобытных верований с отвлеченными умозрениями и с зачатками таких научных теорий, которые значительно опередили свой век. Всякое одностороннее суждение об этой системе, как в отрицательном, так и в положительном смысле, было бы ошибочным: прогрессивные, вполне научные элементы здесь на каждом шагу переплетаются с бесплодной мистикой и самыми рискованными аналогиями.
Так как я касаюсь истории философии лишь поскольку речь идет об идее изменения, превращения и развития, то здесь лишь вкратце будут указаны некоторые спорные пункты, относящиеся к истории пифагореизма. Прежде всего, остается неизвестным, написал ли сам Пифагор хотя одно сочинение. Платон и Аристотель знают о Пифагоре менее, нежели позднейшие, особенно новопифагорейские писатели, далеко не всегда внушающие доверие. Что касается Диогена Лаэртскаго, он, по обыкновению, приводит различные мнения, из которых трудно вывести что-либо, определенное даже тогда, когда он сам выражается довольно решительно. По словам Диогена, (Till, 5), некоторые говорят, что Пифагор ничего не написал; но они шутят: потому что Гераклит физик (т. е. Гераклит эфесский) вполне ясно говорит о нем, что „Пифагор, сын Мнесарха, занимался историческими исследованиями более всех людей и выбрав эти писания создал свою мудрость, многознание и зловредное искусство." Из этих слов Гераклита вовсе не следует, чтобы он считал Пифагора автором каких-либо сочинений - видно только признание его обширных сведений в связи с враждебным отношением к учению и практическим приемам пифагорейцев. Далее Диоген Лаэртский уже прямо называет сочинение Пифагора о природе, состоявшее, по его словам, из трех книг: педагогической, политической и физической. Однако, тот же Диоген признаёт, что Пифагору приписывались различные сочинения, написанныхе другими авторами, например, пифагорейцем Лисием, учителем известного Эпаминонда; он же утверждает, что Филолай—первый пифагореец, обнародовавший учение Пифагора, до тех пор остававшееся неизвестным. Другие писатели сообщают о Пифагоре и его учениках еще менее достоверные данные. Так, например, Ямвлих уверяет, что до Филолая сочинения Пифагора сохранялись в тайне. Сведения о философских трудах жены Пифагора, Феано, также очень сомнительны. Точно также сомнительны известия о его детях —сыне Телауге и дочери Дамо (по другим сведениям, дочь называлась Феано). Новопифагорейцы приписывали основателю пифагорейского союза славу чудотворца, о которой есть, впрочем, и более древние указания. Уверяли, что у Пифагора было золотое бедро, что у него учились даже галльские друиды, что Пифагор был изобретателем физиогномики и других таинственных наук и т. п. Сведения о пифагорейском союзе также мало достоверны. Несомненно, что это был союз, державшийся в политике аристократических начал и частью примыкавший к религиозным культам и союзам, вроде орфических: от этих последних было, по-видимому, заимствовано правило воздержания от некоторых родов пищи; но в этом отношении сведения новопифагорейскпх писателей не заслуживают особого доверия, а еще менее можно положиться на некоторых христианских авторов. Тоже следует сказать об общности имущества у пифагорейцев: и в этом отношении многое составляет, вероятно, плод позднейших прикрас. Климент александрийский приписывал пифагорейцам даже полное половое воздержание, тогда как другие авторы (Музоний, Диоген Лаэртский) показывают, что сам Пифагор имел детей; многие авторы уверяют, что пифагорейцы не ели мясных блюд и бобов; Аристоксен, наоборот, уверяет, что бобы были у них главным блюдом; он же и Геллий утверждают, что и мясо допускалось, исключая некоторые мясные блюда, например, не дозволялось есть вола, пахавшего землю. По словам Диогена Лаэртского, бобы запрещались по той причине, что они „наполнены духами и более всех общее имеют с духовным ". Очень вероятно, что пифагорейцы вывели это заключение из свойства бобовых растений вспучивать живот, на что прямо указываете тот же Диоген. Он же ссылается на сочинения Аристотеля, где сказано, что пифагорейцы воздерживались от бобов, потому что находили в них поверхностное сходство с половыми органами.
Еще древние приписывали Пифагору всевозможные путешествия и сношения с жрецами и мудрецами почти всех, тогда известных стран. Новейшие писатели добавили сюда Индию и даже Китай. По Диогену Лаэртскому, Пифагор, сын Мнесарха, жил сначала в Самосе, затем переехал на Лесбос. где учился у Ферекида Сиросского. Затем, возвратившись в Самос, был учеником старика Гермодаманта. Вслед затем много путешествовал, был посвящен почти во все мистерии, какие существовали у греков и у варваров, отправился в Египет с рекомендательным письмом, данным ему Поликратом к Амазису затем был у халдеев и персидских магов; по возвращении в Самос, он подвергся преследованию тирана и бежал в Кротон. Это последнее событие, т. е. переселение Пифагора в Нижнюю Италию, имеет несомненно исторический характер.
Как ни велико значение пифагорейцев в деле установления многих математических истин, и в этом случае трудно решить, что именно принадлежит основателю учения. Что касается знаменитой пифагоровой теоремы, она, вероятно, действительно принадлежит Пифагору: египтяне знали разве частные случаи этой теоремы, вроде того, что треугольник с катетами 3 и 4 имеет гипотенузу, равную 5, причем 32 + 42 = 9 +16 = 25 = 52. Возможно, что Пифагор сначала нашел свою теорему, исходя из арифметических исследований, но позднее убедился в ее справедливости геометрическим путем.
Что касается восточных влияний на Пифагора, то несомненно, что влияние Индии и, особенно, Китая вполне неправдоподобно; путешествие Пифагора в Египет допустимо, хотя и не доказано исторически; но Пифагор вовсе не имел надобности заимствовать оттуда учение о переселении душ, которое вовсе не резко выражено в египетских верованиях. Тоже относительно Персии: дуализм Пифагора (например, противоположение нечетного и четного) имеет мало общего с персидским дуализмом добра и зла. Остается стало быть, лишь косвенное влияние Востока через посредство орфических и иных культов, впоследствии, в свою очередь, подвергшихся влиянию пифагоритизма.