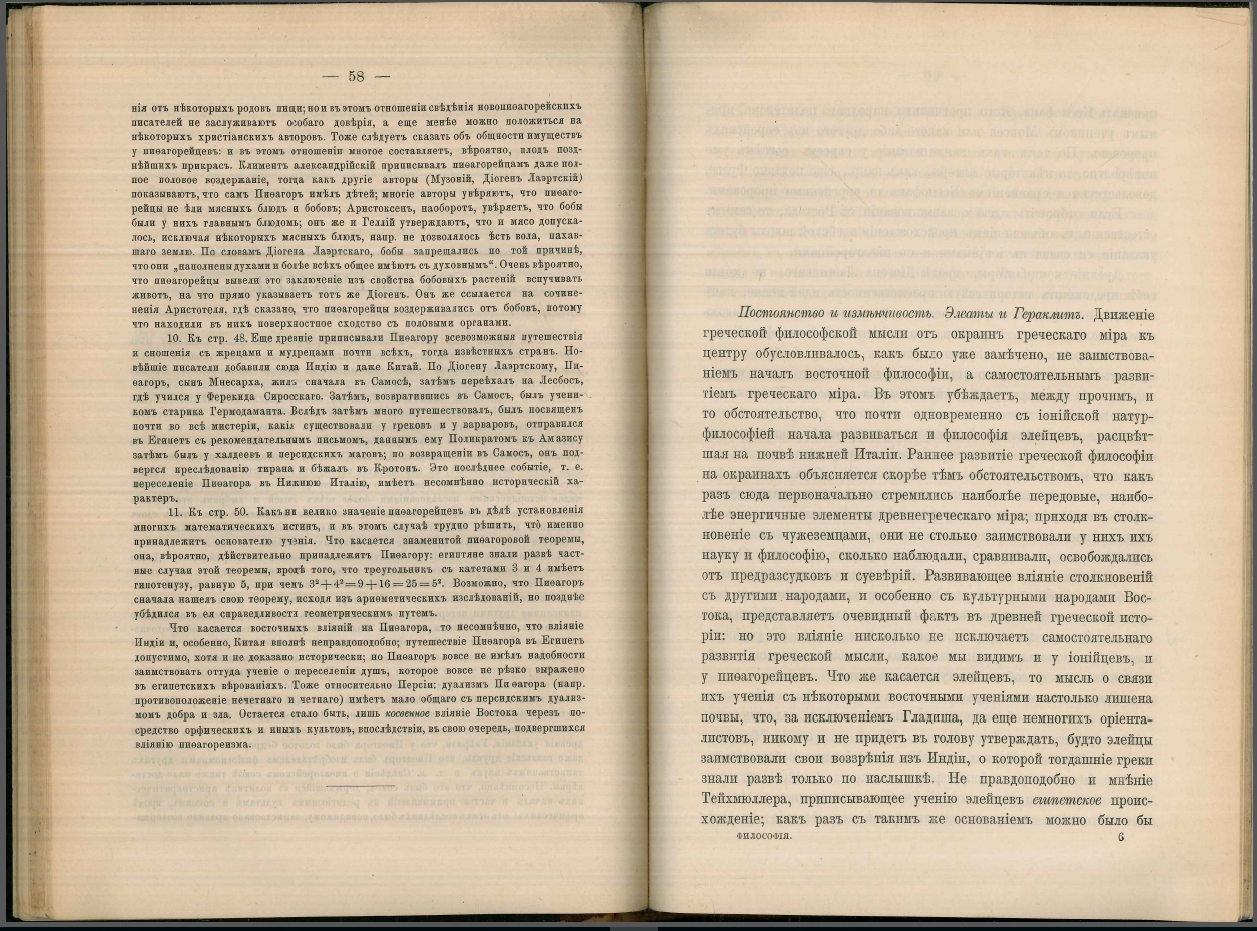
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Постоянство и изменчивость. Элеаты и Гераклит. Движение греческой философской мысли от окраин греческого мира к центру обусловливалось, как было уже замечено, не заимствованием начал восточной философии, а самостоятельным развитием греческого мира. В этом убеждает, между прочим, и то обстоятельство, что почти одновременно с ионийской натурфилософией начала развиваться и философия элейцев, расцветшая на почве нижней Италии. Раннее развитие греческой философии на окраинах объясняется скорее тем обстоятельством, что как раз сюда первоначально стремились наиболее передовые, наиболее энергичные элементы древнегреческого мира; приходя в столкновение с чужеземцами, они не столько заимствовали у них их науку и философию, сколько наблюдали, сравнивали, освобождались от предрассудков и суеверий. Развивающее влияние столкновений с другими народами, и особенно с культурными народами Востока, представляет очевидный факт в древней греческой истории: но это влияние нисколько не исключает самостоятельного развития греческой мысли, какое мы видим и у ионийцев, и у пифагорейцев. Что же касается элейцев, то мысль о связи их учения с некоторыми восточными учениями настолько лишена почвы, что, за исключением Гладиша, да еще немногих ориенталистов, никому и не придет в голову утверждать, будто элейцы заимствовали свои воззрения из Индии, о которой тогдашние греки знали разве только понаслышке. Неправдоподобно и мнение Тейхмюллера, приписывающее учению элейцев египетское происхождение; как раз с таким же основанием можно было бы признать Ксенофана, этого противника народного политеизма, прямыми учеником Моисея или какого-либо другого из еврейских пророков. Но так как заимствование у евреев совсем уже невероятно, то некоторые авторы, как например, еще недавно Фулье, довольствуются сравнением Ксенофана с еврейскими пророками.
Если отбросить идею о заимствовании с Востока, то самыми естественным объяснением происхождения элейской школы будет указание её связи с ионийцами и с пифагорейцами.
Древние компиляторы, вроде Диогена Лаэртского, не могли себе представить историческую преемственность идей иначе, как в виде непосредственной передачи тех или иных взглядов от учителя ученику. Впрочем, значение прямой философской традиции не должно быть ценимо слишком низко, особенно если принять во внимание, что устное преподавание в то время играло значительно большую роль, чем книжная мудрость. Ученики не редко не довольствовались одними учителем и приезжали из очень далеких местностей послушать какую-либо знаменитость. Философия все более распространялась в широких кругах общества; богатые люди считали необходимыми собирать у себя философов; многие из так называемых тиранов сами занимались философией или покровительствовали философам, а иногда и гнали их... Многие философы, по тем или иным причинам, спасаясь то от тиранов, то от черни, а иногда от врагов отечества, бежали в отдаленные города, распространяя философское образование. Борьба с персами и внутренние раздоры между греческими республиками способствовали подобным переселениям. Персидские войны, несмотря на внутренние раздоры между греками, укрепляли сознание национального единства и содействовали сближению родственных между собою культурных начал.
Это не могло не отразиться н на развитие философии, которое, в значительной степени, шло параллельно с политическим и культурным развитием Греции. После разрушения Милета и упадка многих ионийских колоний, малоазиатское побережье перестало быть центром философского движения. Ионийские выходцы частью основывали новые колонии, частью переселялись в центр греческого мира; этому соответствовало и перемещение философских центров, которые образовались в Нижней Италии (Великой Греции), а затем в Афинах.
Крайняя шаткость хронологических данных и скудость известий о жизни основателя элеатской или элейской школы—Ксенофана не позволяет установить точного отношения между этим философом и его ионийскими и пифагорейскими предшественниками. Диоген Лаэртский причисляет Ксенофана, как и всех элейцев, наравне с пифагорейцами и атомистами, к так называемой италийской школе и называет учителем Ксенофана—Телауга, сына Пифагора. К сожалению, самое существование Телауга не может считаться достоверным, и сверх того возможно, что Ксенофан был лишь несколькими годами моложе самого Пифагора, а потому не годился в ученики его сыну. Достоверно известно лишь следующее: Ксенофан не только был знаком с пифагореизмом, но и осмеивал некоторые стороны учения Пифагора, например, учение о переселены душ. Не менее несомненно и знакомство Ксенофана с ионийской натурфилософией, особенно с учением Анаксимандра.
Значение философии Ксенофана и вообще всей элейской школы состоит в том, что элеаты отнеслись отрицательно к идее изменения и превращения, противопоставляя ей идею неизменного и постоянного бытия. У первого основателя этого учения, Ксенофана, мы видим еще смешение догматических положений о неизменном бытии с наивными представлениями о строены видимого мира, при чем Ксенофан не сознает необходимости ни выставить какие-либо противоречия, ни разрешить их или объявить неразрешимыми. Учение о единстве и неизменности бытия приобретает характер догматической онтологии лишь со времен Парменида; еще далее идет Зенон, выставляющий диалектику, как полемическое оружие против признания феноменального мира. Это еще, однако, не скептицизм в полном смысле слова: Зенон, как и его предшественники, нисколько не сомневается во всем, так как он убежден в реальности единого и неизменного бытия; его сомнение или, точнее, отрицание относится лишь к миру явлений. Из этого видно, что мнение, приписывающее всей элейской школе скептический характер, не может считаться правильным.
Ксенофан, бесспорно, говорит об обманчивости человеческих чувств; но это не есть скептицизм, утверждающий, что вообще ничего нет достоверного. У Ксенофана замечается, сверх того, некоторая пессимистическая струя, всегда очень рано проникающая в философские умозрения; этот пессимизм представляет резкий контраст, например, с жизнерадостным миросозерцанием гомерической эпохи. Однако, такой пессимизм независим от скептицизма: мы видим грустные ноты уже у Гезиода, изображающего жизнь не как пир и веселье, но как арену труда и скорби; те же мотивы встречаются у древнейших моралистов и мудрецов; так Солону приписывается утверждение, что смерть лучше жизни—мысль прямо противоположная гомерическим представлениям, по которыми здешняя жизнь далеко предпочтительнее жизни в царстве призраков н теней. Как относился Ксенофан к этим вопросам, судить трудно: но скептиком он оказывается разве в том смысле, что признает слабость человеческой мысли. Очистить взгляды Ксенофана от позднейших примесей, вообще, не легко. Еще в древности, как например в подложном аристотелевском трактате об элейской философии (написанном кем-либо из позднейших перипатетиков), учение Ксенофана смешивалось с взглядами позднейших элеатов, особенно Зенона. Не удивительно, что подобное смешение встречается и у многих новейших писателей.
Происхождение учения Ксенофана можно объяснить следующим образом. Еще ионийская философия сделала попытку установить понятие о едином начале всех вещей, причем Анаксимандр пытался даже освободить это начало от эмпирически данных признаков, сделав его «невидимым, нерождаемым и неуничтожаемым». Существует даже указание, что Анаксимандр допускал неизменяемость мира, как целого, при изменяемости его частей.
Отсюда было недалеко до признания единого и неизменного начала: стоило только отвергнуть самую изменяемость. Для создания единства, как трансцендентного начала, было необходимо отвлечься не только от таких свойств вещей, каково жидкое, воздухообразное состояние, массивность и т. п., но и от всех вообще процессов, наблюдаемых в вещественном мире, всюду полном изменения и движения.
Уже Анаксимандр в значительной мере оставил почву опыта и пытался найти абстрактное начало вещей; он не мог, однако, настолько отвлечься от физического мира, чтобы придумать начало, не имеющее ничего общего с свойствами, который придавались им, наравне с другими ионийцами, эмпирически познаваемому веществу. Основное свойство начала всех вещей у Анаксимандра то же, как и у других ионийцев: его «беспредельное» самоподвижно и способно к самоизменению. Элейцы пошли далее в деле абстракции: но тем опаснее был избранный ими путь, все более и более разобщавший философскую мысль с опытным знанием и приведших, наконец, к отрицанию всех опытных данных.
Несомненная заслуга элеатов состоит в том, что они резко порвали связь философии с мифом. Но на место мифологического антропоморфизма они ввели другой, более утонченный, признав чисто логические обобщения и абстракции за абсолютную реальность. Неизбежною стороною нашего мыслительного процесса является соединение представлений в понятия, все большей и большей степени общности; отсюда можно было прийти к мысли, что существуете некоторое понятие, настолько общее, что в нем соединяются все другие. Подобный же процесс обобщения и отвлечения привел к установлению атрибутов этого единого всеобщего понятия. Потребность в постоянных и неизменных опорных пунктах ощущается нашей мыслью, которая не в состоянии следить за непрерывностью изменения; эта чисто психологическая потребность представляется с первого взгляда не свойством нашего ума, мыслящего при посредстве более или менее постоянных образов н понятий, но свойством самих вещей; элейцы, признав лишь единую, всеобъемлющую вещь, естественно приписали ей свойство абсолютной неизменяемости и прочности. Как ни метафизичны по-видимому эти начала, но и в них есть зародыш физического закона, и это потому, что метафизика не сразу могла порвать связь с действительным миром. Провозглашенное элейцами постоянство бытия было смутным предчувствием более совершенных положений, приведших в нашем веке к учению о постоянстве вещества и энергии. Таково, например, утверждение что свойством вечности и постоянства обладает не отвлеченное бытие, а всякое вещество. Заслуга развития этой стороны учения принадлежит не самим элейцам, хотя они и выставили основное положение: «из ничего не выйдете ничего», но атомистами, находящимся в связи не только с элейцами, но и с ионийской натурфилософией: во многих случаях, даже по некоторым основными вопросам, атомисты выступают не как продолжатели, а как прямые противники элеатов.
Об основателе элейской школы, Ксенофане, к сожалению, известно немногое; однако, исторической критике удалось, по крайней мере, устранить некоторые неточные представления о его деятельности, вроде того, что Ксенофан, будто бы, выставил учение, близкое к монотеизму, в смысле признания единого личного божества, стоящего вне природы и представляющего творческое начало по отношению к пассивному и инертному миру. Ничего подобного у Ксенофана не оказывается: его учение представляет род пантеистического монизма; утверждение, по которому Ксенофан считал вселенную беспредельною, по всей вероятности, основано на ошибочном истолкованы текста и находится лишь у писателей, на которых, вообще, трудно положиться, при чем один из них, именно Цицерон, приводите и это, и другое мнение. Кажется, всего правдоподобнее догадка, что даже там, где Ксенофан, действительно, употреблял слово беспредельное (он утверждал, например, что земля беспредельна вниз или вглубь), это выражение следует истолковывать не в смысле математической бесконечности. Под ним подразумевается лишь нечто огромное.
По словам Аристотеля, Ксенофан, «взглянув на целое небо», пришел к убеждению, что существует единое божество. Слова эти самым категорическим образом указывают на происхождение идеи единства вселенной из чувственного восприятия, для которого «вселенная» представляется ограниченною некоторыми неопределенного размера сводом или полушаровидным куполом, а путем воображения можно дополнить «вселенную» в шар. Ксенофан представлял себе вселенную, в действительности, шаровидною, и мы считаем вполне правдоподобным то толкование одного из сохранившихся отрывков его философской поэмы, по которому вселенная признается везде себе подобною, т. е. однородною, по сравнению с однородностью шаровидной формы.
В подтверждение того, что Ксенофан мог считать вселенную бесконечной, указывают на его знакомство с философией Анаксимандра. Но «беспредельное» Анаксимандра также не может быть понимаемо, как математическая бесконечность, превосходящая всякую данную конечную величину: это просто выражение для чего-то огромного. Если бы даже было иначе, то, все-таки, трудно допустить бесконечность вселенной с точки зрения Ксенофана, так как он считал свое «единое» огромным шаром. Наше личное мнение сводится к тому, что понятия Ксенофана были в этом случае смутны, и что, утверждая шаровидность и громадность вселенной, он вовсе не заботился о том, существует ли что-либо за пределами этого огромного шара. Мнение Фулье, что речь идет о «бесконечном шаре» —крайняя натяжка. Ксенофан просто видел «огромный», но не бесконечный небесный свод, и для него было этого вполне достаточно, чтобы счесть небо вместилищем всего сущего, видимым представителем единого божественного бытия. Это грубо-реалистическое истолкование первого возникновения идеи о «едином» кажется нам, во всяком случай, более правдоподобным, чем многочисленные идеалистические объяснения, из которых достаточно привести мнение Гегеля. По Гегелю, элеатская философия представляет первую попытку мыслить при посредстве понятий, без содействия представлений. Пифагорейцы еще не выработали «умозрительной формы выражения для понятия». Их «числа» еще не чистые понятия, но понятия, смешанные с представлениями; элеатская школа, наоборот, нашла «выражение абсолютного существования в чистом понятии». Для этого элеатам пришлось рассматривать «всякое изменение, в его наивысшем отвлечении, как ничто», потому что чистая мысль, «чистое бытие, единое, в своей неподвижной простоте и равенстве самому себе, непосредственно полагает само себя». Кое-что в этой характеристике, конечно, справедливо: так например, несомненно, что элеаты отвергали действительность всякого изменения; но утверждение Гегеля, будто «единое», как его понимали элеаты, отрешилось от наглядных представлений, став чистым понятием, противоречит приводимому им же свидетельству Аристотеля, из которого видно, что такой вполне абстрактный характер учение элеатов получило (да и то не вполне) лишь у Парменида, тогда как в начале оно было связано с наглядным представлением.
Для большей ясности, привожу цитату из метафизики Аристотеля: «Парменид рассматривает единое логически, Мелисс—материально; поэтому, первый признает единое ограниченным, второй—неограниченным (беспредельным). Ксенофан, первый, высказавший положение о едином, не определил далее ничего и не коснулся ни той, ни другой стороны (т. е. ни логической, ни материальной); но взглянув на целое небо, сказали: божество есть единое. Ксенофан и Мелисс вообще немного грубоватее; Парменид же видит глубже».
Все, что можно с достоверностью приписать Ксенофану, подтверждает эту аристотелевскую характеристику. Так, например, Платон, восхваляющий диалектическое искусство Парменида, не приписываете Ксенофану подобной же способности обращаться с отвлеченными понятиями. Платон заключаешь только, что Ксенофан, подобно своим преемникам, признает единство всего существующего. Аристотель, всегда искусно анализирующий чужие мнения, указывает еще на противоположность воззрений элеатов и ионийской натурфилософии. В то время, как у ионийцев основное начало было причиной и источником возникновения изменения, «единое» элейцев, по своей неподвижности, исключало всякий процесс возникновения и изменения.
Эти показания, в связи с свидетельствами Феофраста, и др. древних писателей, не оставляют никакого сомнения в том, что учение Ксенофана представляло род пантеистического монизма.
Сохранился, впрочем, отрывок, принадлежащий самому Ксенофану, в котором философ певец заявляет: «куда ни направлю свою мысль, везде все разрешается в единое», и далее говорится, что это единое существовало вечно, всегда и всюду обладая одинаковою природой. Если вспомним, что еще мифологическое творчество греков успело связать представления о божествах с силами природы и в значительной степени приблизилось к пантеистическим воззрениям, то легко поймем, что, отвергнув олимпийских богов, Ксенофан поставил на их место единого бога, не в смысле Моисеевского или иного личного единобожия, но в смысле объединения всей природы. Само собою разумеется, что позднейшие писатели часто пользовались учением Ксенофана для своих целей; но даже знаменитый отрывок, сохраненный Климентом Александрийским, где говорится о едином боге, который выше всех богов, — вовсе не свидетельствует о том, чтобы Ксенофан признавал божество личным внемировым началом. Напротив того, развитие философской мысли, приведшее его к отвержению грубых антропоморфических атрибутов божества, нисколько не требовало приписывания единому высшему началу — личного характера, т. е. независимости и отдельности от мира.
«Единое» Ксенофана—не что иное, как вся вселенная, не только мыслимая, но и непосредственно созерцаемая, так как небесная синева представлялась ему крайне отдаленной границей мира. Та самая народная мифология, против которой он восстал, бессознательно внушила ему благоговение перед небесным сводом, который, вместо того, чтобы быть местопребыванием человекообразных богов, стал для Ксенофана видимым представителем единства всей природы. Если же Ксенофан утверждает, что его «единое» обладает преувеличенными душевными свойствами человека, —если природа, по его словам, вся есть зрение, вся мысль, вся слух, то и в этом видна лишь пантеистическая переработка мифов.
При таком происхождении учения Ксенофана, не удивительно, что отрицание им всякого изменения не побудило этого философа отказаться от попытки построить свою космогонию, которая, впрочем, значительно уступает более совершенным представлениям пифагорейцев. Необходимо заметить, что и физические теории Ксенофана были, в значительной мере, искажены позднейшими писателями. Так, иногда утверждали, что Ксенофан признавал «началом всех вещей» —в физическом смысле этого слова— землю. Это повторяет и теперь, со слов Симплиция, Виндельбанд. На самом деле оказывается, что в цитируемых стихах, будто бы подтверждающих этот взгляд, идет речь просто о земных существах. Сверх того, наиболее надежный древний автор, Аристотель, самым категорическим образом отвергает, чтобы кто-либо из древнейших философов признавал землю—началом всего. Неточно также утверждение псевдоПлутарха, что будто бы Ксенофан признавал землю «соединением воздуха и воды». Еще более ошибочно приписываемое ему Диогеном Лаэртским установление четырех основных элементов (стихий)—положение, несомненно принадлежащее Эмпедоклу. О физических воззрениях Ксенофана известно сколько-нибудь достоверно следующее: по его мнению, земля была сначала жидкою, потом стала твердою; затем снова действием воды поверхность ее была превращена в ил. Это предположение явилось у Ксенофана не на основании каких-либо метафизических соображений, оно вытекало из грубых, но все-таки замечательных наблюдений. Ксенофан нашел окаменелости морских животных и заметил, что такие окаменелости попадаются даже на горах: из этого он вывел, что поверхность земля перешла из жидкого состояния в твердое. Мысль эта в высшей степени замечательна для такой отдаленной древности, так как составляет первую попытку естественного объяснения палеонтологических находок, которые даже в гораздо более поздние времена признавались «игрою природы». Далеко менее основательны, хотя любопытны, астрономические теории Ксенофана; по его мнению, светила и некоторые световые метеоры, как например радуга, представляют скопления горящих светящихся паров или род пламенных облаков, которые угасают при заходе светил и зажигаются или даже образуются вновь при восходе. Землю Ксенофан признавал, как было уже замечено, распространяющеюся вниз на неизмеримую глубину; но еще раз необходимо подчеркнуть, что понятие о неизмеримости было у него крайне смутно, так как земля должна была, несмотря на свою неизмеримость, поместиться внутри сферической вселенной. Любопытна попытка Ксенофана объяснить видимое круговое движение светил оптической иллюзией. По его мнению, светила или пламенные туманные массы движутся прямолинейно, но движение это кажется круговым: Ксенофан выводил это из того наблюдения, что облако, приближающееся к наблюдателю по прямой линии, представляется ему движущимся по небесному своду, стало быть— по дуге круга; он полагал поэтому, что движение светил кругами есть лишь оптическая иллюзия. Но если, например, солнце движется прямолинейно, то одно и то же солнце не может возвратиться обратно: поэтому Ксенофан вполне последовательно утверждал, что каждый день является новое солнце и что, стало быть, существуют бесчисленные солнца; то же он считал справедливыми для всех светил. Система эта настолько странна, что, если бы она принадлежала позднейшему времени, ее можно было бы счесть за попытку диалектического доказательства невозможности движения светил; но гораздо правдоподобнее предположить, что сами Ксенофан еще не сознавали сколько-нибудь ясно несовместимость своей физики с учением о неизменяемости и неподвижности вечного и единого бытия, и что, поэтому, его физические теории имели скорее наивный, чем скептический характер. К той же области наивного философского творчества необходимо отнести и утверждение Ксенофана, что божество не походит на человека, потому что видит и слышит, не дыша: зная, что еще мифология признавала дыхание синонимом жизни и душевной деятельности человека, можно из этого вывести, что Ксенофан, пытаясь, по возможности, отрешиться от грубых антропоморфических атрибутов божества, лишили его даже дыхания и жизни, но все-таки наделили чувствами, подобными человеческим.
Гораздо более абстрактный характер имеет учение другого представителя элейской школы—Парменида, у которого мы видим уже вполне сознательное противопоставление метафизических начал—физическими. Отсюда почтение, которое оказывалось этому мыслителю метафизиками всех времени, от Платона до наших дней.
Характерную черту учения Парменида составляет резкое различение между абсолютными бытием и видимостью, причем первое познается посредством разума, второе же составляет область чувственного восприятия или, как выражается Парменид область кажущегося. В виду этого он, насколько можно судить по оставшимся отрывкам и показаниям позднейших авторов, разделил свою поэму о природе на две части, из которых первая относится к бытию, постигаемому разумом, а вторая—к видимому или, точнее, кажущемуся миру. Само собою разумеется, что по самому смыслу учения Парменида, между положениями обеих этих частей его исследования не только нет, но и не может быть никакого согласия и соответствия, так как разум (или, по конкретному выражению Парменида, разумная речь) открывает под покровом видимого мира как раз то, что ускользает от чувственного восприятия. Наиболее важными отличием разумного познания от простого восприятия видимых явлений представляется, по Пармениду, то, что разум признает существование одного лишь бытия, тогда, как чувственное восприятие допускает, наряду с бытием, также и небытие.
После того, что было сказано о Ксенофане, едва ли следует пояснять, что исходный пункт всей элейской философии—неизменяемость бытия—составляет продукт не одной метафизики. Он тесно связан и с чисто физическими представлениями, мало по малу приводящими к убеждению, что всякое материальное бытие, как бы ни были изменчивы его формы, по своей сущности—не уничтожаемо. Мысль эта могла, поэтому, развиться дальше и в чисто физическом направлении, что мы увидим позднее у атомистов; но элейская школа в лице Парменида и Зенона все более уклонялась от этого направления.
Философия Парменида представляете в истории мысли важное значение, так как в ней впервые замечается резкая противоположность между метафизикой и непосредственным, наивным реализмом; и было бы ошибкой совершенно отвергать заслуги этого метафизического учения, приучившего ум к анализу отвлеченных понятий: ведь и опытная наука не может сделать ни шагу без ясного и строгого разграничения понятий, без чего невозможно даже ставить научных вопросов, а стало быть нельзя производить и научных опытов. Прошло, однако, много времени, прежде чем те или иные абстракции, выработанные греческими метафизиками, могли принять характер научных истин. На первых порах, помимо мифологических примесей, уже в значительной степени устраненных Ксенофаном, к научным положениям примешивались иллюзии, созданные самым процессом обобщения и отвлечения. Непривычный к отвлеченностям ум постоянно смешивал идеальное с реальным, логически выведенное с непосредственно наблюдаемым; первая же попытка провести резкую пограничную черту между произведениями нашего ума и нашими чувственными восприятиями неизбежно должна была оказаться неудачною и привести к новым, более утонченным, но зато и более опасным иллюзиям, а в конце концов, и к отрицанию действительности.
У Парменида мы видим лишь первый шаг в этом направлении. Несмотря на его решительные утверждения, что все воспринимаемые нашими чувствами перемены во внешнем мире не более, как иллюзии, Парменид вовсе не может еще считаться рационалистом в новейшем смысле этого слова: он даже не отличает разум от чувства и не знает о противоположении между душевною и телесною деятельностью. Центр тяжести его философии находится не в тех или иных условиях нашей познавательной деятельности, но во внешнем мире, относительно которого он и ставит догматические положения, смешивая логические отвлечения с свойствами предполагаемой мировой сущности. Уже Ксенофан учил о единстве вселенной, но представление об этом единстве имело у него вполне наивный и наглядный характер —вселенная объединялась видимым небесным сводом—тогда как у Парменида мы видим попытку логического обоснования этого мирового единства. Основную идею его учения составляет неизменность единой и вечной вселенной, при чем понятие о мире, как совокупности всего вещественного, смешивается с чисто логическим отвлечением, с понятием единого неизменного бытия, в котором отсутствуют все признаки реальности.
Несмотря на некоторые филологические трудности, отчасти обусловленный скудостью дошедших до нас отрывков из философской поэмы Парменида, общий смысл его учения довольно ясен. В одном сохранившемся отрывке, Парменид прямо утверждает, что мысль и предмет мысли—есть одно и то же, и поясняет это тем, что мыслить можно только о существующем. Он считает величайшей глупостью и непонятнейшим заблуждением мнение, что небытие можно рассматривать, как нечто существующее, как подобное бытию; по его мнению, небытие есть нечто такое, о чем нельзя ничего мыслить и высказать. Эти определения и свое стремление оградить закон логического противоречия Парменид тотчас, однако, смешивает с физическими понятиями и пытается перечислить атрибуты бытия, как будто имеет дело с некоторым вещественным началом. Он говорите не только о неподвижности и неуничтожаемости бытия, но и рассматривает его, как нечто полное, в противоположность не существующей, по его мнению, пустоте; логическое отвлечение приобретает у него свойства неделимости, даже равновесия и замкнутости, при чем Парменид недалек от взгляда на бытие, как на некоторый огромный шар, вроде того, который созерцали Ксенофан. Во всяком случае, бытие Парменида есть нечто пространственно протяженное, представляющее непрерывную, лишенную всяких пустот массу, и при том ограниченную, хотя и весьма огромную. Если Парменид и утверждали единство бытия и мышления, то лишь в том смысле, что и самую мысль он не отделял от пространственно-протяженного мыслящего существа, как не отделял и души от тела: еще Аристотель заметил, что в учении Парменида идет речь не о субстанции, отличающейся от тела, но о субстанции самого тела.
Из этого уже видно, что несмотря на все пренебрежение Парменида к показаниям чувств, он не мог совершенно отрешиться от физических представлены и даже попытался обосновать свою собственную физику. Но как он понимали эту физику—решить трудно по недостатку данных. По всей вероятности, целью Парменида было показать, во второй части его философской поэмы о природе, какими нами кажется внешний мир в противоположность единому неизменяемому бытию, доступному нашему разумному познанию. Людям кажется, что рядом с полными есть и пустое, рядом с существующими—не существующее.
Свет соответствует бытию точно так же, как мрак—небытию; мрак есть нечто кажущееся, следствие несовершенства и обмана наших чувств. То же относится к теплоте, как действительному физическому началу, в противоположность холоду.
Эти взгляды Парменида, кое в чем приближающиеся к новейшим воззрениям, само собою разумеется, смешиваются с далеко менее рациональными элементами, и некоторые из его положений имеют даже мифологический характер, если только не принять их за поэтическое выражение какой-либо физической гипотезы. Так как Парменид, несомненно, кроме Ксенофана был многим обязан и пифагорейцам, то едва ли будет ошибкой предположить, что под мифологическим образом женского божественного существа у него скрывается понятие о некотором центральном теле, вроде центрального огня, играющего такую господствующую роль в пифагорейских представлениях об устройстве вселенной; не мешает здесь заметить, что первичным, очень скромным источником этого пифагорейского учения был, по всей вероятности, огонь домашнего очага, игравший такую важную роль в древнем культе. Эту богиню, управляющую всем мирозданием, если верить позднейшим писателям, Парменид называл то управительницей, то судьбой; из сохранившихся отрывков мы видим, что богиня эта управляет всем и создает все, стараясь соединить женское с мужским и мужское с женским, причем мы снова встречаем обычное мифологическое объяснение происхождения всех вещей путем обыкновенного рождения. Смешение света с тьмой прямо сопоставлено у Парменида с половым актом; любовь (Эрос) является первым созданием богини мироправительницы; мы приближаемся таким образом к теогонии Гезиода и других представителей мифологического творчества.
Собственно, космологические понятия Парменида близки к теориям пифагорейцев. Так он несомненно признавал землю шаром; но, конечно, ошибочно утверждение Диогена Лаэртского, будто Парменид первый высказался в пользу шарообразной формы земли, так как, с большой вероятностью, это мнение должно быть приписано Пифагору или, во всяком случае, его ближайшим ученикам, от которых оно могло быть усвоено и Парменидом. От них же заимствовал Парменид и свои представления о звездных и планетных сферах — ряде шаровидных концентрических слоев; внутренний шар образуете твердое ядро вселенной, внешний шаровидный слой составляет ее крайнюю оболочку или границу, между ними находятся круги из чистого огня. Некоторые из представлений Парменида, по всей вероятности, заимствованы им у Анаксимандра и других ионийцев, но едва ли основательно мнение Таннери (Tannery), что Парменид подобно Анаксимандру считал звезды колесовидными телами, из которых выступает огонь. По всей вероятности, Парменид обладал уже более развитыми астрономическими представлениями. Он несомненно знал о том, что луна освещается солнцем. О том, как он размещал планетные и звёздные сферы, имеются противоречивые данные. ПсевдоПлутарх утверждает, что Парменид признавал самою крайней—сферу Венеры, затем следовали сферы Солнца и Луны, между ними и землей помещалась звездная сфера.
Некоторые историки философии утверждают, что Парменид считал людей порождением солнца: это основано на одном отрывке, сохраненном Феофрастом и Диогеном Лаэртским. Но, по всей вероятности, мы имеем дело с искажением текста, и при правильном чтении оказывается, что речь идет о происхождении людей из ила, высушенного солнцем, т. е. о теории, до некоторой степени, напоминающей учения ионийцев. Хотя биологические теории Парменида у него самого не получили особенного развития, их следует привести уже потому, что такие или подобные мнения очень долго удерживались в древности, и слишком низкая оценка, данная им филологами (например, Целлером), не основательна. Парменид признавал, что половые различия обусловливаются происхождением от разных сторон тела родителей. Правая часть половых органов, как мужских, так и женских, служить для рождения мальчиков, левая дает девочек, учение, очевидно связанное с известными пифагорейскими аналогиями между правым и мужским, левым и женским. Да и вообще, все учение о противоположностях, о двойственности начал, составляющее основную черту физики Парменида (в отличие от его объединяющей метафизики) имеет чисто пифагорейский характер. Аристотель и псевдоПлутарх сохранили нам еще некоторые мнения Парменида, очевидно вытекающие из той же идеи противоположности, напоминающей полярность позднейших натурфилософских теорий. Так, Парменид утверждал, что мужчины впервые возникли на севере, а женщины на юге. Хотя, подобно всем древним греческими философам, он ставил мужской элемент выше женского, это не мешало Пармениду признавать в женщинах присутствие более значительного количества тепла или огненного начала. На такую уступку он, по-видимому, был вынужден некоторыми грубыми физиологическими наблюдениями: по словам Аристотеля, Парменид признавали, что у женщин должно быть более значительное количество крови, чем у мужчин, и этим объяснял явление менструаций. У Парменида мы находим также одну из самых ранних попыток дать теорию наследственности. Обыденный факт сходства детей с родителями, конечно, известен еще грубым, некультурным племенами; незначительной проницательности достаточно для того, чтобы подметить, что из детей некоторые более походят на отца, другие на мать, и что степень сходства независима от пола, так что, например, сын может более походить на мать, чем на отца. По мнению Парменида, эти факты объясняются той или иной пропорцией мужского или женского элемента. Признавая жидкости, заключающиеся в половых органах женщины, своего рода семенем, Парменид утверждал, что между семенем того и другого из родителей происходит род борьбы за преобладание, при чем победа мужского или женского семени и обусловливает преимущественное или исключительное сходство с отцом или с матерью—теория в высшей степени замечательная для такой отдаленной древности—в особенности, по её аналогии с некоторыми новейшими теориями. Сверх того, Парменид пытался применить то же объяснение и к тератологическими явлениям, т. е. к уродливостям. Если, во время столкновения мужских элементов с женскими, происходит соединение подходящих между собою частей, то результатом оказывается правильно сложенный организм; от неправильного смешения и беспорядочной борьбы происходят уродливости.
Антропологические и психологические воззрения Парменида были предметом бесконечных и частью бесплодных споров, главным образом, обусловленных неясным текстом, который почти каждым историком философии переводится и истолковывается иначе. Речь идет о «» в котором слово «» переводилось различными способами (полное, наибольшее, главное, преобладающее, совершенное п т. п.). По нашему мнению, четыре стиха, подавшие повод к спору, переводятся след. образом:
„Подобно тому, как каждый имеет состав из многосвязных членов, так составлен и ум у людей; потому что у людей природа членов и есть то самое, что мыслит, у всех и у каждого; ибо полное есть мысль».
Перевод этот оставляет неопределенным, что именно подразумевал Парменид под словом «полное» —физически ли сплошное вещество, как думает, например, Виндельбанд, т. е. противоположное пустоте, на самом деле, по мнению Парменида, не существующей—или же речь идет о полноте в смысле совокупности, единства, соответствующего объединению членов и частей тела в одном организме; или же, наконец, речь идет о главенстве и господстве мысли над телесными отправлениями в тесном смысле слова. При всевозможных толкованиях, из общего смысла приведенных строк ясно, что Парменид далек и от дуализма, в смысле противоположения души—телу, и от сознательно проведенной материалистической гипотезы, хотя бы в том виде, как она была позднее предложена атомистами. Парменид заметил некоторое соотношение между расчленением организма и различными душевными свойствами, и отправлениями; в то же время, он обратил внимание на целостность организма, состоящего, однако, из членов; а потому представил себе и мысль или ум некоторым целым, составленным из связных частей. Этот смысл слов Парменида совершенно ясен, независимо от того или иного толкования спорного слова, и во всяком случае нельзя принять те истолкования, которые приписывании Пармениду слишком многое или, наоборот, считать приведенный отрывок совершенно бесцветным и маловажными. К числу первых принадлежит и Льюис, усматривающий в цитированных строках признание зависимости природы мысли от природы организации, в том смысле, что у различных людей мысль теми выше, чем выше у них организация. Такое толкование, по моему мнению, совершенно произвольно; да и вообще, было бы ошибочно искать в психологической теории Парменида чего либо, кроме смутного сознания соотношения между душевными и телесными явлениями и несколько более ясного противопоставления высших душевных способностей—низшим. Так, несмотря на значение, придаваемое им разумной речи и мысли по сравнению с теми, что дается призрачными показаниями чувств и что служит основанием для неразумных мнений, Парменид в то же время признавал, что чувствовать и мыслить есть одно и тоже; обман же чувств они, по-видимому, приписывал частому влиянию тех или иных внешних предметов на несоответственные чувства. Самую способность к чувственному восприятию Парменид считал обусловленной известной однородностью между воспринимающим и воспринимаемым, так что, по его мнению, огонь воспринимается огненными началами, влага—влажными элементами и т. п., причем и огонь и проистекающее от него тепло признавались им, однако, за существенное, животворное начало души. Уменьшением теплоты тела Парменид объяснял сон, старческую слабость и смерть; он допускал, что труп, неспособный более к восприятию огня, тепла и света, остается, однако, способным воспринимать холод и мрак; да и вообще, чувственное восприятие всего себе подобного Парменид, по-видимому, считали свойством всех вещей, даже безжизненных.
Главная трудность изучения философии Парменида, как и других философов, предшествующих Платону, зависит, конечно, от того, что мы вынуждены судить об их системах по скудными и не всегда достоверным, или быть может искаженным, отрывкам; и даже в случае несомненной подлинности, один и тот же отрывок может иметь совершенно неодинаковое значение, смотря по связи с предыдущим и последующим, а именно эта связь и остается для нас, в большей части случаев, неизвестною. Чрезвычайно трудно, например, решить вопрос, как понимал сам Парменид свою физику—излагал ли он здесь свою собственную теорию видимого мира в отличие от истинного единого бытия, или же его слова, что здесь изложены чужие мнения, должны быть понимаемы буквально, т. е. так, что здесь излагаются обычные в то время физические теории, которым, однако, сам Парменид не придавал значения истины. Кажется, первое предположение более основательно, потому что в сохранившихся отрывках второй, физической части поэмы нет, ничего, показывающего, чтобы Парменид относился к приводимым им положениям сколько-нибудь скептически: он ставит их в такой же категорической форме, как и свои утверждения на счет неизменности бытия. Одно лишь несомненно, а именно, что в метафизической части поэмы, Парменид, хотя во многом и следует Ксенофану, проявляет большую самостоятельность, нежели в физических теориях, в значительной мере заимствованных у пифагорейцев и в тоже время представляющих черты сходства с учением Анаксимандра и даже Гераклита. Если принять мнение, что хронологически философия Гераклита предшествует учению Парменида, и допустить, что Парменид был близко знаком с учением Гераклита, то придется добавить, что, не смотря на противоположность между этими философами по вопросу о бытии, Парменид, в физической части своего учения, мог воспользоваться некоторыми взглядами Гераклита. Более вероятно, что в этом случае мы имеем дело лишь с одним из тех совпадений, которые очень часты в истории мысли, даже в тех случаях, когда не может быть и речи о заимствовании. Отношение Парменида к Гераклиту, вообще, остается не вполне выясненным. В то время как зависимость Парменида от Анаксимандра, от пифагорейцев и от Ксенофана признается всеми, по отношению к Гераклиту существуют самые различные мнения. Одни (как например Шустер) полагают, что Гераклит должен считаться прямым и даже неизбежным предшественником Парменида и в то же время, что поэма Парменида представляет род памфлета, направленного против учения Гераклита. Другие (особенно Целлер) сомневаются даже в том, чтобы Парменид был знакомь с учением эфесского философа и, во всяком случае, отвергают существование полемики, направленной Парменидом против Гераклита. Вопрос усложняется тем, что учение Гераклита еще в древности прославившееся своею темнотой, истолковывается разными исследователями различно, а потому являются и различные доводы за или против возможности полемическая отношения к Гераклиту со стороны главного представителя элейской школы.
Философия Гераклита, занимающая довольно обособленное место, хотя довольно близко примыкающая к ионийской школе, заслуживает подробного исследования. Она была предметом немногих, но чрезвычайно обстоятельных монографий, каковы: написанное в духе Гегеля сочинение известного социалиста и руководителя рабочего движения Ф. Лассаля и менее пространный труд Шустера; наиболее же верные взгляды и здесь высказываете Целлер, хотя в некоторых частностях я не могу за ним последовать.
Прежде всего, важно решить вопрос, не раз уже возбуждавшийся историками философии: в какой мере следует признать философию Гераклита самостоятельной или, по крайней мере, независимой от влияний, пришедших извне, от восточных народов? Главные представители теории восточного влияния, Гладиш и Рёт, постарались собрать ряд доводов, частью почерпнутых из очень сомнительных источников, с целью доказать восточный характер учения Гераклита. К сожалению, в то время, как Гладиш пришел к выводу, что философия Гераклита тожественна с учением Зороастра (Заратуштры), т. е. придал ей персидское происхождение, Рёт нашел в учении Гераклита несомненное сходство с египетскими верованиями. Уже это различие в выводах двух талантливейших представителей «восточной» теории позволяет отнестись к их выводам с некоторым сомнением. Гораздо более умерены в этом случай взгляды Лассаля. Стараясь сблизить некоторые положения Гераклита с изречениями персидских священных книг, Лассаль, однако, решительно подчеркивает самостоятельность развития греческой философии и утверждает, что все заимствованное с Востока греки перерабатывали настолько, что чужое становилось в полном смысле слова их собственным. Стоить здесь также привести замечание Шустера, что как бы ни была велика возможность влияния персидских учений на Гераклита, еще требуется доказать, что такое влияние, действительно, обнаружилось, так как у Гераклита нет ничего такого, почему можно было бы его выделить из общего хода развития греческой мысли.
В пользу персидского влияния на Гераклита, на первый взгляд, говорят хронологические данные. Эпоха его деятельности (хотя точное определение так же трудно, как и для других философов древнейшего периода) совпадает с эпохою персидских войн и с владычеством персов в ионийской Греции: в частности, персы господствовали и над Эфесом, стало быть над родиной и местом деятельности Гераклита. Сравнительно континентальный характер Эфеса, отличающий его от таких городов, как Милет и Само, несомненные восточный влияния на народные верования, например, заимствование от лидийцев культа Артемиды, все это, в связи с некоторым внешним сходством между учением Гераклита об огне, о борьбе противоположных начал и т. п.—и религией Зороастра, очень легко могло привести к теории, впервые предложенной Крейцером в его известной «Символике», но особенно подробно развитой Гладишем. Философия Гераклита была, до известной степени, пробным камнем для теории восточного происхождения греческих философских систем. И как раз в этом случае, новейшая историческая критика убедительно доказала, что большая часть аналогий и сближений отличается крайне поверхностным характером и что если допустить некоторое знакомство Гераклита с персидскими учениями (что само по себе еще довольно вероятно), то, во всяком случае, он заимствовал из них весьма немногое, да и это немногое переработал почти до неузнаваемости. С другой стороны, не смотря на довольно своеобразное положение Гераклита посреди греческих философских школ, его связь с предшествующими системами так же несомненна, как и его влияние на последующих философов, —хотя он и не создал сколько-нибудь крупной и влиятельной школы и не имел ни одного выдающегося ученика, так как таковым нельзя считать, например, Протагора.
Для нас философия Гераклита представляет особое значение, по ее отношению к учению об изменяемости и превращаемости всего существующего. Известно, что еще Гегель считал Гераклита своим предшественником. Но после того, что было сказано о самом Гегеле и о противоположности между его логическим развитием и органической эволюцией, было бы через чур опрометчиво положиться на мнение Гегеля или вывести, что Гераклит является родоначальником всех вообще эволюционных теорий. Прежде всего, это и фактически неверно, так как было уже показано, что зародыши теории развития, и при том в той её форме, которая всего важнее по отношению к современному естествознанию, встречаются уже у первых ионийских философов. Оставляя в стороне вопрос о первенстве, следует еще решить, действительно ли прав Гегель, видя в учении Гераклита зачатки своей теории превращения бытия в небытие п последующего слияния противоположностей, или же правы те историки философии, которые видят в учении Гераклита первые основания здравой реалистической философии. Последний взгляд защищался Льюисом (который считал его даже своим собственным открытием), но независимо от Льюиса и другими писателями, в особенности же Шустером, положившим его в основание своей монографии о Гераклите; намеки на этот взгляд можно найти даже у Риттера.
К сожалению, в этом, как и во многих других случаях, оказывается, что истина находится даже не по середине, а совершенно вне тех точек зрения, которые защищаются обеими противоположными сторонами. Гераклита нельзя считать ни предтечей абсолютного идеализма во вкусе Гегеля, ни предвестником будущих реалистических учений. Он прежде всего физик, каким его считали и называли древние; но введенный им физический элемент значительно отличается от прежних начал ионийских философов, —своей крайней подвижностью, изменчивостью и активностью. Сверх того, Гераклит жил и мыслил в эпоху, когда наивное философское творчество Фалеса уже уступало место более сознательному и более глубокому отношению к вопросам и о сущности всего окружающего, и о целях и смысле человеческой жизни. Путь был проложен с разных сторон—ионийцами, пифагорейцами и основателем элейской школы — Ксенофаном. Не примкнув ни к одному из этих направлений—хотя ближе всего, он стоял все-таки к ионийцам—Гераклит выступил отрицательно как против народных верований и мнений, так и против прежних философских учений, но также и положительно, выставив новые метафизические начала, прямо противоположные элейскому учению о неизменном бытии. Единому и неизменному мировому божеству Ксенофана Гераклит противопоставил непрерывное изменение или, по его картинному выражению, течение всех вещей, которое и составляет, по его мнению, абсолютную действительность, тогда как постоянство и неизменность становятся призраками.
Несомненно, что некоторое влияние на Гераклита оказали тогдашние политические и общественные события, глубоко потрясшие весь греческий мир. Города гибли и разрушались до основания, подобно Милету, еще недавно бывшему главным центром греческой философской мысли. Все изменялось, являлись новые колонии, новые умственные центры; под влиянием борьбы с персами, изменялись учреждения, нравы, привычки, даже одежда греков; всюду было брожение, везде только и говорили о войнах, союзах, победах, поражениях. Курциус, в своей истории Греции, сопоставляет тревожную и бурную эпоху персидских войн с известным философским положением Гераклита, что война над всем царь и всему отец. Было бы, однако, ошибкой дать слишком высокую оценку подобными влияниям. Лишь при извращении здравой реалистической точки зрения, можно выводить все особенности той или иной философской системы исключительно из политических, общественных, или даже экономических мотивов, упуская из виду преемственное влияние идей и индивидуальные особенности философского творчества. На самом деле необходимо постоянно иметь в виду как культурно исторические, так и идейные влияния и помнить, что значение личного элемента тем существеннее, чем своеобразнее данная личность; а в философии Гераклита элемент оригинальности на столько силен, что отбросить эту сторону, значить исказить весь смысл его учения.
Еще в древности Гераклита получил прозвище «темного» () за необычайную туманность его высокопарной прозы, сходной с изречениями Пифий или с прорицаниями Сивиллы. При изучении философских систем других древнейших мыслителей, главные испытываемый нами затруднения зависят или от утраты рукописей и скудости сохранившихся отрывков, или от чисто филологических причин — недостаточного знакомства с некоторыми выражениями, которые были вполне ясны для современников, или, наконец, от позднейших искажений, прибавок и прикрас со стороны комментаторов. Все эти трудности остаются и для Гераклита; но несомненно, что здесь прибавляется еще одна, так как даже его современники и ближайшие следующие поколения часто недоумевали, что именно он хотел сказать. Совершенно своеобразный, отрывистый, сильный, но в тоже время тяжеловесный (как замечаете Диоген Лаэртский) слог; странная расстановка слов, при которой (по словами Аристотеля) часто нельзя понять, относится ли данное слово к предыдущему или к последующему; обилие образных выражений и полное отсутствие последовательных доказательств и выводов— все это невольно напоминает о том, что Гераклит, происходивший из знатного рода (его предки были даже царями), по рождению должен был получить достоинство архонта базилевса , и председательствовать на элевзинских таинствах. Уступив эту должность брату, Гераклит перенес жреческие приемы в философию. В этих чисто биографических условиях следуете видеть, несомненно, одну из причин, почему в философии Гераклита, со времен Крейцера и Гладиша, особенно легко находили следы восточного влияния. Влияние это, однако (как и на Пифагора), могло быть только косвенным, через посредство мистерий и легенд, несомненно восточного происхождения; допустить же прямое заимствование Гераклитом философских начал, находящихся в религии Зороастра, невозможно, так как все замеченные здесь сходства отличаются поверхностным, чисто внешним характером и во всяком случае уступают даже тем, которые могут быть найдены между учением Гераклита и, по-видимому, диаметрально противоположной ему системой элейцев. Нельзя, поэтому, согласиться не только с крайним мнением Гладиша, отожествляющим учение Гераклита с парсизмом, но даже и с более умеренными взглядами Лассаля, который, резко подчеркивая самостоятельность Гераклита, полагает, однако, что этот философ пользовался восточною мудростью, как материалом, который и переработал в совершенно своеобразном направлении. Факты, некоторого знакомства Гераклита с учением магов вполне вероятен; но влияние этого учения ни в коем н случае не более того, какое оказано на него философией ионийцев (особенно через посредство Анаксимандра—что, впрочем, подробно выяснено и Лассалем) и Ксенофана; и все эти влияния, взятые вместе и определяющие историческую законность появления Гераклита, перевешиваются значением его индивидуальности. Можно, конечно, найти сопоставления между основными положениями Гераклита и восточными учениями (указывали на некоторые учения индусов и даже на библейскую суету сует); но нигде в древности мы не находим последовательного проведения мысли, что непрерывная смена явлений, вечное изменение и превращение и составляет неизменный и постоянный закон природы. Что касается Индии, то помимо шаткости её хронологии ясно, что Гераклит отсюда не мог ничего заимствовать. Попытки сопоставить это своеобразное учение то с абсолютным идеализмом Гегеля (мнение самого Гегеля и Лассаля), то с сенсуализмом и реализмом (Льюис и Шустер), то с мировой скорбью Шопенгауэра — все эти попытки бесплодны, так как, на самом деле, учение Гераклита остается пантеистическим натурализмом, близким к ионийской философии, но ищущим уже не единого вещественного начала, а всеобъемлющего закона, по которому происходят все видимые и невидимые явления природы.
Остроумная, но основанная на произвольном изменении и истолкованы текстов, попытка Шустера доказать, что Гераклита придавал первостепенное значение показаниям чувств, опровергается не столько исследованием тех или иных, быть может испорченных текстов, сколько общим характером дошедших до нас отрывков и мнениями наиболее проницательных древ них писателей, упоминавших о Гераклите. Известное изречение Гераклита, сохраненное Секстом Эмпириком и подавшее повод к бесконечным спорам, обозначает следующее: «дурные свидетели глаза и уши для людей, обладающих грубыми душами»; но само по себе это изречение может быть истолковано как угодно, т. е. и в том смысле, что душа составляет главное, и наоборот, что главное—это чувства, а душа хороша лишь тогда, когда умеет истолковывать показания чувств. Но если сопоставить этот отрывок с другими, где идет речь о мнениях людей, о их неспособности к пониманию, о том, что они в состоянии бодрствования действуют точно во сне, что превосходный мировой порядок для них совершенно не существует и т. п., то едва ли окажется возможным истолковать приведенное изречение в сенсуалистическом смысле, если только не придавать слову «сенсуализм» совершенно извращенного значения. По словам Гераклита, огромное большинство людей не находит истинного познания; все ежедневное, обыденное им чуждо, их собственный путь скрыт от них; истина кажется им невероятною; они глухи к ней, даже когда она входит им в уши: ведь для осла сено лучше золота; все неизвестное их отталкивает: ведь и собака лает на всякого незнакомца. Здесь, очевидно, речь идет о неспособности толпы к усвоению новой истины; а эта истина, которая действительно должна была показаться крайне парадоксальною большинству современников Гераклита, состоит, по его мнению, в том, что все течет, т. е. все находится в состоянии непрерывного изменения, подобно реке, катящей все новые волны, вытесняющие прежние, причем, однако, внешний вид реки, как целого, доступного непосредственному чувственному восприятию, остается одним и тем же. Нельзя, поэтому, утверждать, чтобы Гераклита ставил в основу своего учения эмпирически наблюдаемый факт изменчивости. Утверждать это, значить впадать в грубое смешение ясных для нас психологических мотивов, несомненно участвовавших в построении учения Гераклита, с тою точкою зрения, которая была свойственна самому философу: а Гераклит, несомненно, не считал существенною частью своей системы непосредственно наблюдаемые, доступные слуху и зрению, изменения, вообще явные превращения и перемены. Для него всего важнее были как раз перемены, не наблюдаемые непосредственно, а постигаемые умом. Видя вокруг себя всюду изменение, жизнь и движение, Гераклит интересовался не столько этою доступною наблюдению областью, сколько обобщением закона движения и перемены—на явления, в которых непосредственное чувственное восприятие не открываете никаких заметных перемен. Это и выражается в образном представлении вечно текущей, вечно изменяющейся, но, по-видимому, неизменной реки. Конечно, не чувственное восприятие, не прямое свидетельство зрения говорит нам о том, что река на самом деле непрерывно изменяется и что нельзя два раза выкупаться в одной и той же реке, так как её воды заменятся другими: в этом убеждает нас сложный процесс мысли, а не прямое наблюдение, по-видимому утверждающее как раз обратное. Только мысль, а не непосредственное чувственное созерцание, позволяет нам далее узнать, что не только всякий данный предмет постоянно изменяется, но всюду мы видим превращение данных вещей в их прямые противоположности. В то время как у пифагорейцев учение о противоположностях приняло чисто арифметический характер, Гераклит слил его в одно целое с учением о превращаемости: но это движение переходящих друг в друга противоположностей имеет у него не чисто логический характер (наподобие гегелевской формулы развития), а наоборот, существенно физический: это движете в настоящем, механическом смысле слова, даже с указанием двух противоположных направлений, и если угодно делать какие-либо сопоставления между учением Гераклита и новейшими теориями (сопоставления всегда более или менее рискованные), то его теория движения вверх и вниз () не только по названию, но и по смыслу, несколько походит на учение о двойном движении электрического тока (от анода к катоду и в то же время в обратном направлены). Его сопоставляли и с движением, происходящим при обмене веществ между организмом и средой. Как бы то ни было, теория Гераклита имеет физический характер учения о двойном движении в двух противоположных направлениях, а никак не метафизический характер «процессирующего единства бытия и не бытия», навязанный ему Лассалем, по примеру Гегеля. Справедливо лишь то, что это двойное движение противоположностей есть лишь частный случай еще более общей формулы: «все течет» (), под которой просто подразумевается непрерывная изменяемость, существующая даже там, где чувства говорят нам о неподвижности и неизменности. В этом случай Гераклит остается все же на чисто объективной почве; он еще не утверждает, как это сделал впоследствии Протагор, что одно и то же понятие имеет различные значения, смотря по отношению данного объекта к мыслящему существу — человеку; для Гераклита изменчивость, зависящая от субъективных причин, представляется еще почти исключительно свойством объекта. Он говорит, например, что день и ночь, вредное и целебное, нижнее и верхнее, начало и конец, смерть и бессмертие есть одно и тоже; но при этом подразумевается не различная точка зрения на одни и те же предметы или понятия, а действительный переход одного предмета в другой, прямо ему противоположный, причем простая смена явлений (дня и ночи, зимы и лета) рассматривается, как свойство взаимной превращаемости. Следует, однако, заметить, что некоторое смутное сознание субъективной стороны вопроса замечается уже у Гераклита; и в этом смысле можно согласиться с замечанием Лассаля, что вся система Гераклита представляет мучительную борьбу мысли, стремящейся познать себя. Всего ближе подходит сюда отрывок, в котором, с свойственною Гераклиту краткостью, и образностью сказано, что «Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир, пресыщение и голод; он изменяется, подобно огню, когда, смешиваясь, с жертвенными благоуханиями, он (огонь ?) называется, смотря по удовольствию каждого»: это, вероятно, следует понимать так, что тем или иным людям доставляет удовольствие тот или иной запах, хотя принцип явления — огонь остается одним и тем же. Но уже одно пренебрежение Гераклита к отдельным человеческим мнениям и постоянное предпочтение того, что обще всем людям (а этим общим он считает, не фактически, но как желательное — разум), не позволило ему остановиться на подробной разработке субъективного начала. по этой же причине нельзя вслед за Гомперцом и Шустером признавать Гераклита основателем учения об относительности всего существующего.
Здесь нет возможности дать подробный разбор всех основных положений Гераклита; мы перейдем, поэтому, прямо к физической стороне его учения, в которой многое окажется значительно более низкого достоинства, чем у пифагорейцев и даже у ионийцев. Физика Гераклита важна лишь как последовательное проведение его философских начал; значение же этих последних определяется, главным образом, тем, что они составляют противовес элейскому учению о неизменности и неподвижности, грозившему превратить весь мир в пустой, лишенный всякого содержания призрак; а этот противовес именно потому и замечателен, что учение Гераклита выросло не на сенсуалистической почве, а питалось почти теми же источниками, которые были доступны главному представителю элейской школы — Пармениду: противоположность результатов, при почти общей исходной точке, сама по себе служила указанием на невозможность метафизического решения вопроса о сущности вселенной. И нечего удивляться тому, если эпигоны обоих направлений, в конце концов, были приведены к скептицизму и софистике: один из немногих учеников Гераклита, Кратил, дошел например до утверждения, что ничто не может быть утверждаемо, потому что всякое утверждение уже содержит в себе определение какого-либо бытия, а бытие есть призрак, и существует лишь изменение; с другой стороны, всем известны парадоксы о невозможности движения, об Ахиллесе, неспособном догнать черепаху, и другие подобные же рассуждения, подробно развитые последним крупным представителем элейской школы—Зеноном.
Физическая сторона учения Гераклита тесно связана с его общей теорией изменяемости. Огонь является основной стихией в физике Гераклита, благодаря своей подвижности, изменчивости, и главное, разрушительной силе, так как в силу закона противоположности, разрушение переходит в созидание. Мир, по словам Гераклита, не был создан никем из богов и людей, он всегда был, есть и будет вечно живущим огнем. Конечно под огнем и перуном () Гераклит подразумевал не только огонь в грубом смысле слова, но некоторый элемент, дающий тепло и оживотворяющий все существующее; поэтому иногда Гераклит отожествляет огонь даже с душою, да и вообще, исходя из мысли о вечных превращениях всех вещей, Гераклит не мог остановиться на какой-нибудь одной стихии, не допустив её превращаемости во все другие вещества. Огонь у Гераклита способен принять всевозможные формы: это вовсе не метафизическая абстракция, но элемент, относящийся ко всем предметам видимого мира, как золото к товарам. Огонь обменивается, по словам Гераклита, на все, и все на огонь, как товары на золото и золото на товары. Отсюда, однако, еще не следует, чтобы огонь, превращаясь во все, изменял свою природу, становился качественно новым веществом: раз признано, что все есть «вечноживущий огонь», то остается допустить, что все другие формы представляют лишь видоизменения одного и того же огненного начала. Хотя по мнению Гераклита при сгущении огня получается влажность, а при сгущении влажности — земля, но это не более как различные состояния одного и того же начала, и здесь, вопреки мнению Целлера, нельзя видеть перемены самой субстанции, как нет её для новейших физиков при превращении воды в лед или в пар. Лукреций в своей поэме «О природе вещей» упрекает Гераклита в нелогичности, приписывая ему мнение, что мы воспринимаем нашими чувствами огонь, как нечто достоверное и несомненно присутствующее, но ничего другого воспринять не можем; но здесь нет нелогичности, раз все остальное есть, по мнению Гераклита, тот же огонь, лишь скрытый под новой формой. Зная, что, по мнению Гераклита, вода есть не что иное, как превращенный огонь, мы уже не удивимся тому, что он готовь признать обратно, происхождение солнца из воды: по его мнению, солнце питается водяными парами и даже представляет род горящей массы пара, странствующей по небу в ладьевидной оболочке; подобно Ксенофану, но по другими основаниям, он допускает, что каждый день появляется новое солнце, уничтожаемое горением и вновь возникающее из массы паров. Вероятно, простое наблюдение восхода и заката солнца над морскими горизонтом было главным, хотя и бессознательным мотивом такой космологической теории. Аристотель прямо говорит, что по мнению некоторых последователей Гераклита солнце «испаряется из моря». Один из комментаторов Платона поясняет, что, по Гераклиту, солнце погружается в море, там угасает, затем движется под землею и на другое утро загорается вновь. Но с точки зрения Гераклита, во всяком случае, это будет новое солнце, так как, по его мнению, даже река постоянно становится иною, обновляя свои воды.
Тот же принцип превращаемости огненного начала должен был, по Гераклиту, объяснить смену дня и ночи, которая рассматривалась им не как простое последование во времени, но как физическое превращение дня в ночь и обратно. При этом предполагалось, что день зависит от избытка сухого огненного начала, тогда как ночь происходит от избытка влажности. Аналогичными способом объяснялись и времена года. Была ли известна Гераклиту шарообразность земли и знал ли он о видимом суточном вращении всех неподвижных звезд, это остается неизвестным. Вселенную он представлял себе вечною во времени, но, по всей вероятности, ограниченною в пространстве. Много спорили о том, признавал ли Гераклит неуничтожаемость вселенной или, наоборот, допускали полное уничтожение её огнем, о чем впоследствии много писали стоики, комментировавшие Гераклита. Вопрос этот, по всей вероятности, должен быть решен в том смысле, что Гераклит, признавая всюду перемены и превращения и считая огонь началом, в котором сосредоточиваются свойства изменяемости, действительно, имел полное основание допустить последовательные смены целого ряда мирозданий. Это, конечно, не уничтожение, но лишь разрушение одной формы, и в силу самого процесса разрушения создается новая форма. Огонь истребит со временем все теперь наблюдаемое, но отсюда возникнуть другие формы, явится другая жизнь. Допускал ли при этом Гераклит, что настанет время, когда все превратится в сплошную огненную массу, из которой вновь образуются земля, вода, животные, словом все существующее, или же он предполагал, что такие превращения будут лишь частными и последовательными—это, в сущности, вопрос второстепенный, так как, в конце концов, все таки каждое существо должно в обоих случаях пройти через стадию огня; да и в этом нет ничего удивительного, если, вслед за Гераклитом, мы примем, что все существа представляют тот же огонь в том или ином видоизмененном состоянии. Целлер, резко оспаривающий защищаемую Лассалем теорию неуничтожаемости вселенной, признает, что Гераклит говорил о грядущем превращении всей вселенной в огонь; он вынужден, однако, заметить, что вселенная, для Гераклита, по своей сущности вечна (вечно живущий огонь), а это и есть принцип неуничтожаемости. Обратно, Лассаль, сам всюду подчеркивающий принцип противоположности, господствующий в философии Гераклита, не мог доказать того, чтобы учение о полном сожжении существующего теперь мира сколько-нибудь противоречило основному положению о вечной изменяемости, непрерывном течении всех вещей. Сверх того, положительно известно, что Гераклит допускал какой-то период (по одними данными в 10800 лет, по другими в 18000), который называл большими годом; период этот, быть может имевший связь с халдейским саросом (служившим для определения затмений), вероятно и был в его космологии периодом существования данной формы вселенной, затем превращающейся, при посредстве огня, в новую форму. Совершенно в том же роде антропологические и психологические положения Гераклита. Человек, как и все существующее, происходить из огня. Тело само по себе безжизненно и неподвижно; душа представляет значительную аналогию с огненным началом; в ней сохраняются, в чистом виде, искры божественного огня; отсюда беспредельность души, т. е. отсутствие для неё преград и способность её пройти всякий путь. Мы уже знаем, что, по Гераклиту, самое солнце образовалось из теплых паров; еще естественнее было прийти к мысли, что и душа парообразна. Если для теории солнца играли роль наблюдения (закат и восход над морем, при чем часто наблюдаются испарения в виде тумана, поднимающегося над морским горизонтом), то и для души такое учение также было не продуктом метафизического умозрения. Грубое обыденное наблюдение над влажным дыханием было вполне достаточно; сверх того, играло роль и наблюдение над состоянием людей, отуманенных винными парами. Отсюда довольно наивный вывод Гераклита о превосходстве сухой души над мокрою. По его словам, когда влажность влияет на душу, душа становится нечистою и теряет власть над телом: этим и объясняется состояние пьяного, более не владеющего своими членами.
Пантеистические стремления Гераклита уживаются с различением души от тела, хотя это и не такой дуализм, который противополагал бы душу, как нематериальное начало— материи. Вообще понятие о нематериальном, а стало быть и понятие о материи, выработалось значительно позднее, и все попытки найти такие различения у Гераклита совершенно бесплодны. Душа просто представляет более тонкое состояние огненного начала, нежели тело, и в то же время она постоянно сопоставляется с дыханием, что, как известно, делают уже древнейшие мифологии. Душа входит в тело извне и сверх того должна постоянно поддерживать сообщение с началами, более тонкими, нежели тело, и прежде всего с окружающим воздухом (это и есть () окружающее), при чем сообщение это достигается частью дыханием, частью при посредстве чувственных восприятий; если последние ослабевают, как например во сне, то и свет разума помрачается. Это мнение Гераклита, конечно, может быть приведено, как поверхностное доказательство в пользу сенсуалистического истолкования его философских начал; но необходимо еще раз подчеркнуть, что о сенсуализме в новейшем смысле этого слова не может быть и речи у философа, лишь смутно различающего разные душевные способности; ведь и Парменид, которого (Льюис и мн. др.) противопоставляют Гераклиту, утверждал, что чувствование и мышление есть одно и то же, что не мешало ему отвергать, подобно тому же Гераклиту, значение чувственных восприятий—по сравнению с выводами разума.
Признавая огонь оживляющими и одухотворяющим началом, Гераклит, по-видимому, мог рассматривать прекращение жизни и душевной деятельности, как процесс, подобный угасанию; но так как он признавали душу, чем-то отдельными от тела, то им были избран другой, простейший исход, а именно отделение души, как более тонкого начала, и воссоединение её с вечными божественным огнем. Это более гармонировало и с учением о двух непрерывных противоположных движениях, причем душе приписывалось движение и вверх, и вниз. Эти представления смешивались в учении Гераклита с чисто уже мифологическими образами демонов и душ героев, наполняющих, по его мнению, всю вселенную. Впрочем, составить себе полное понятие об анимизме Гераклита нелегко, по недостатку сведений; так, например, трудно сказать, в каком смысле следует понять выражение, что души всасываются (?) в преисподнюю () Целлер переводит: души в аду (?) могут всасывать в себя пары (?); по переводу Шустера: души чуют ад). Одно несомненно, а именно, что Гераклит считал смерть лишь одною из стадий превращения: смерть в то же время есть рождение чего-то другого; рождение одушевленного существа есть смерть части божественного начала, входящего в грубое тело и, обратно, смерть человека есть возрождение части божественного огня. Не удивительно, что это учение пришлось впоследствии по вкусу стоикам, а через их посредство не осталось без влияния и на христианских писателей.
Наиболее трудностей представляют, конечно, взгляды Гераклита на источники познания и на общий закон природы. Трудности эти, однако, как кажется, зависят не столько от непонимания современными учеными древних текстов, сколько от того, что понятия самого Гераклита в этом случае были очень смутны. Он смутно сознавал какое-то различие между достоверным и недостоверным знанием; простейшее представляющееся в этом случае мерило, конечно, состоит в том, чтобы признать наиболее достоверным то, что сходится с общим мнением: иногда в этом смысле и истолковывают взгляды Гераклита. Но если вспомнить об его высокомерных отзывах о других философах и крайне пренебрежительном отношении к мнениям толпы, то едва-ли такое истолкование окажется правдоподобными. Гораздо основательнее допустить, что основанием достоверного знания он считал, попросту, разумное мышление. Показания чувств различных людей не дают одних и тех же результатов потому, что у одних людей души более грубы, чем у других. Это различие и порождает различие человеческих мнений о вечно текущем, вечно изменяющемся мире. Эти отдельные мнения людей лишены всякой цены; следует признавать лишь то, что опирается на разум, на размышление, общее всем людям. Самое слово: «общий» при помощи довольно наивной этимологии, похожей на игру слов, Гераклит производит от слова разум. Не то, чтобы Гераклит совсем отвергал показания чувств: он, наоборот, придавал им значение и даже различал более или менее благородные чувства, причем, например, зрение ставил выше слуха, а слух выше обоняния. Но показания чувств имели для него значение лишь материала, служащего пищей более или менее совершенному разуму и в зависимости от этого дающего совершенно различные результаты. Для людей, полагающихся лишь на непосредственные показания чувств и вытекающие отсюда видимости (), не может быть истинного познания, так как вечно живущий огонь скрыт от них сотнею покровов. То, что на самом деле есть наиболее живущее и подвижное, представится таким людям мертвым и неподвижным. Даже о своей философии Гераклит говорит, что люди должны слушать не его, а голос разума. Этот разум, смешиваемый, как и у Парменида, с разумною речью (), есть в тоже время и закон природы, часть божественной истины. Этим объясняется значение, приписываемое не только разумному слову вообще, но и отдельным словам и названиям, в чем не следует видеть (как это утверждаете Лассаль) какого-либо символизма, но просто должно признать наивное смешивание выражения мысли с самой мыслью и с объектом мышления. Едва-ли прав поэтому и Целлер, полагающий, что утверждение Платона об учениках Гераклита, считавших наименование вещи главным путем к её познанию, не имеет никакого отношения к основателю учения. Встречаемые у Гераклита попытки словопроизводства, причем он пользуются чисто фонетическими сопоставлениями (например, риос жизнь и риос лук для стрельбы), едва-ли можно считать случайным элементом его системы; здесь видна попытка найти наиболее прямой путь к раскрытию «божественной истины», главным образом проявляющейся в разумной речи.
Невероятная путаница, царящая в хронологии почти до времен Сократа, значительно затемняет отношения, существовавшие между различными философскими школами, а поэтому следует скорее полагаться на сведения, относящиеся к самому учению того или иного философа, нежели на шаткие хронологические данные. Сопоставление учений элейской школы с учением Гераклита убеждает, с полною достоверностью, лишь в одном, а именно, что Гераклит жил позднее Ксенофана и был знаком с его учением. Наоборот, ровно ничего положительного нельзя вывести из сопоставления Парменида с Гераклитом, исключая того, что они были приблизительно современниками. Виндельбанд, вообще выбирающий наиболее достоверные хронологические данные, полагает, что Парменид родился около 515 года; но это мнение основано на доверии Виндельбанда к правдоподобному «сообщению» Платона. Сообщение же, о котором идет речь, есть просто фиктивный разговор между Сократом и Парменидом в диалоге, названном именем этого последнего. Как известно, диалоги Платона представляют лишь изложение его собственной философии и не могут считаться историческими источниками. Для полемических целей Платону всего удобнее было придумать свидание между Сократом и самым выдающимся представителем элейской школы, что он и сделал, вовсе не выдавая своих диалогов за нечто историческое, хотя аналогичное «сообщение» мы находим и в другом платоновском диалоге, где сказано, что Парменид в старости посетил Афины и встретился с Сократом. Хотя в этом нет ничего невозможного, но не все возможное есть исторический факт. Допустив, однако, точность этого показания, придется все-таки сказать, что год появления сочинения Парменида о природе нам не известен. По всей вероятности, оно написано около 470 года, но может быть пятью и даже десятью годами раньше или позднее. С другой стороны, почти несомненно, что Парменид был непосредственным учеником Ксенофана. Ксенофан, по-видимому, родился около 570 года до P. X., умер же 90 или несколько более лет от роду, т. е. около 480 г., и поэтому приведенные данные порядочно согласуются между собою. Льюис, однако, следуя Кузену, принимает год рождения Ксенофана значительно раньше, а именно не позднее 616 г. до P. X. Если допустить даже, что Ксенофан умер 100 лет от роду, то придется признать, что Парменид, для того, чтобы быть его учеником, должен был родиться не позднее 586 г.; тогда окажется более сомнительным, хотя и не вполне невозможным чтобы он мог когда либо беседовать с Сократом, родившимся в 470 или 469 году.—Более интересно было бы решить вопрос о хронологических отношениях между Парменидом и Гераклитом, в виду мнения, отстаиваемого еще многими историками, будто Парменид в своей поэме прямо полемизирует против Гераклита. К сожалению, ни к какому положительному выводу здесь прийти нельзя, за исключением того, что поэма Парменида и сочинение Гераклита появились, вероятно, в одном и том же десятилетии, тогда как интересно было бы знать, которое из них явилось раньше. Утверждение Шустера, что такое «гениальное произведение человеческого ума», какова система Парменида, не могло явиться внезапно, без предшественников и должно было опираться на Гераклита, хотя в смысле отрицания его системы,—это и подобные утверждения, основанные на чисто субъективной оценке значения системы, ровно ничего не доказывают, тем более, что вполне достаточного предшественника Гераклит имел в лице Ксенофана, у которого заимствовал даже основную идею учения, а также в лице своих учителей пифагорейцев, подготовивших для него путь к дальнейшим абстракциям. Целлер (Ph. d. Gr. I, 737) полагает, что сочинение Гераклита было написано не раньше 478 года, т. е. незадолго до рождения Сократа, а в это время Парменид, даже по хронологии, основанной на платоновских диалогах, имел никак не менее 40 лет от роду. Если же принять хронологию некоторых новейших авторов, то выйдет, что Пармениду было в то время 64 года, и тогда становится еще менее вероятным, чтобы произведение, выражающее всю его систему, имело характер памфлета, вызванного учением Гераклита и направленного против этого учения. Невозможно отрицать того, что Гераклит и Парменид пришли относительно вопроса о неизменности или изменяемости всего существующего к диаметрально противоположным результатам; но тем не менее у них есть и общая почва—признание верховенства разума (отождествляемого с разумной речью), недоверие к чувствам и обыденному мнению (хотя по разным основаниям: Гераклит не доверяет чувствам, потому что они не способны обнаружить перемен и непрерывного движения и превращения, а Парменид потому, что чувствам недоступны неизменность и единство бытия).
Приведенный в тексте перевод четырех стихов из поэмы Парменида, конечно, представляет лишь одну из попыток выразить мысль этого философа. В оправдание такого истолкования можно привести следующее. Прежде всего, первый стих содержит в подлиннике выражение (), которое буквально означает состав, большею частью искусственную смесь (а иногда у позднейших авторов имеет смысл, близкий к нашему слову температура, причем играет роль понятия о той или иной пропорции теплого и холодного, и теплота рассматривается, как род вещества). «Что касается пресловутого (), оно имеет два разных значения; прежде всего, как сравнительная степень от (); оно значит большее, господствующее, преобладающее, но также, как средний род от (), означает то же, что (), и Льюис совершенно напрасно уверяет, что это второе значение неупотребительно. Основываясь на комментариях Феофраста (в соч. de sensn) и Александра (к метафизике Аристотеля), можно, однако, вывести, что у Парменида слово () употреблено в том смысле, что мысль составляет нечто господствующее, преобладающее. У Феофраста сказано след. «Парменид вовсе не различал (отдельных чувств), но только утверждал, что из двух элементов преобладающее есть познание; именно если одержит верх теплое или же влажное, то мышление становится иным (Ср. аналогичный мнения Гераклита о сухой душе). Лучше же и чище становится (мышление) при посредстве теплого; и оно не нуждается в каком-либо распорядке (симметрии)». Далее Феофраст цитирует переведенные в тексте стихи, а затем продолжает: «чувствовать же и мыслить, по его словам, (т. е. по Пармениду) одно и тоже, поэтому и память, и забвение происходят чрез посредство состава ()», т. е. через посредство сложения тела; так как при слове (); следует подразумевать () (именно так комментирует Александр). Далее у Феофраста сказано: «Уравновешиваются ли (теплое и холодное) в смеси, определяя, возможно ли мышление или нет, и каково распределение, ничего этого он не различал». Наконец Феофраст приводит мнение Парменида, что труп не воспринимает тепла, но способен чувствовать холод. Из всего этого видно, что Парменид признавал соотношение между животною теплотой и той или иной способностью мышления, причем данная смесь тепла и холода определяет, по его мнению, ту или иную способность мыслить. Отсюда, конечно, очень далеко до утверждения Льюиса, будто Парменид выставил начало зависимости более или менее совершенных душевных способностей от степени сложности и совершенства организации. Объяснение Парменида имело скорее грубо физический характер (смешение теплого и холодного), нежели утонченно физиологический, приписанный ему Льюисом.
Знакомство Гераклита с учениями Архилоха, Пифагора, Ксенофана, Гекатея подтверждается его собственными словами, именно порицанием всех этих предшественников.
О Гераклите существует ряд монографий различного достоинства. Первый научный труд по этому предмету принадлежит Шлейермахеру (Ges. Werke II, I—140). Здесь много ценных фактических данных, но автор слишком самоуверенно полагает, что исчерпал вопрос до конца. Мнение о сходстве учения Гераклита с парсизмом высказано сначала Крейцером (Fr. Crenzer. Symbolik tier alten Tolker 3 Ausg. 1840, Bd. II. 595—600). Мысль эта была особенно развита Гладишем (A. Gladisch. Heraklit nnd Zoroaster 1859). Более значения имеют работы Лассаля (F. Lassalle. Die Philos. Herakl. des Dnnkelu 2 Bde. 1858), где собрана масса ценного материала и высказаны отдельные меткие замечания; наряду с этим у Лассаля много фраз и произвольных истолкований текста, но всего хуже стремление во чтобы то ни стало втиснуть учение Гераклита в рамки гегелевской философии. Работа Шустера (Schuster в Acta Soeiet. Philolog. Lipsiensis ed. F. Ritsckelms Tom. Ill, 1873), несмотря на остроумие и ученость автора, мало убедительна, а местами автор прибегает к совершенно произвольному искажению текстов (у немецких филологов такое придумывание своего текста вместо сохранившегося называется конъюнктурой). Наиболее важным искажением, имеющим целью доказать чисто сенсуалистический характер философии Гераклита, является следующее. У Ипполита (Refntatio) приведен отрывок из Гераклита, где сказано () (т. е. есть именно) неявная гармония лучше явной. Это утверждение Шустер переиначивает—в вопросе, читая () и получает фразу: «разве неявная гармония лучше явной?» И так, в то время, как Гераклит, судя по сохранившемуся тексту Ипполита, хотел сказать, что неявная гармония лучше, у Шустера выходить как раз обратное: Гераклите сомневается в превосходстве неявной гармонии. Конечно, при такой переделке и следующие затем слова получают извращенное значение, в чисто сенсуалистическом смысле. Шустер не хочет знать того, что точно такой же текст приводится и псевдоПлутархом и притом так, что на этот раз переделка невозможна; конечно, ему не безызвестна цитата из псевдоПлутарха, но он просто ей не доверяет, и у него получается следующая цитата из Ипполита: «Разве неявная гармония лучше явной? Нет, но то, что является предметом слуха, зрения, исследования, то я предпочитаю» сказал будто бы Гераклит, и сенсуалистический характер его философии становится «несомненным.» А между тем, согласный с текстом перевод будет следующий: «Неявная гармония лучше явной: и тому, что зрение, слух, ученость (после этого подразумевается сказуемое: открывает или тому подобное), то (т. е. вышеуказанное, стало быть неявную, недоступную слуху, зрению и изучению, гармонию я предпочитаю,» Под () быть может подразумевается отчасти и математическое знание (это тем вероятнее, что Гераклит довольно пренебрежительно отзывался о пифагорейцах) или по крайней мере ученость в смысле , о которой Гераклит также отзывался пренебрежительно по поводу «многознайства» Пифагора. Выше учености он ставил разум (Aoyos, в тоже время означаете речь) иногда с добавкой слова общий (хоиѵос). Сохраненный псевдоПлутархом текст буквально повторяет изречение «ибо неявная гармония лучше явной» и ставит вне сомнения, что это изречение (в котором у псевдоПлутарха нет лишь слова Иоти, подавшего Шустеру повод в переделке текста) имеет подлинный характер. Следующее затем пояснение, что неявная гармония эта та, в которой различия и разнородность скрыл и утаил произведший смешение бог, по мнению Лассаля, составляет продолжение подлинной цитаты из Гераклита. Возможно, однако, что это пояснение принадлежит и псевдоПлутарху; но и в таком случае оно не лишено значения, как противовес мнению Шустера. Да и у самого Ипполита приведенный текст разъяснен совершенно таким же образом, хотя более запутанно. Лассаль основательно иронизирует над мнением Шлейермахера, усвоенным Риттером и Брандисом, что явная гармония означает «элементарную» или «неорганическую», тогда как неявная «органическую.» Из того, что Гераклит учил об огне, конечно, трудно вывести, чтобы он признавал органическое более совершенным, чем неорганическое, если даже допустить, что он был способен к такой классификации понятий, вовсе не соответствующей его представлениям о жизни и душе. (Сравн. Lassalle I, 97). Лассаль приводит еще любопытное показание одного древнего автора, подтверждающее, что «неявная гармония» должна была представляться для Гераклита выше явной, потому что по Гераклиту «природа любит скрываться () (Themistms orat. Y ad Jovian.). Комментатор этот (IV века после P. X.) от себя уже прибавил в духе новоплатонизма: «а за природою (скрывается) творец природы». Познание скрытой гармонии мира и есть та истинная мудрость, которая по Гераклиту (см. Diog. Laert. IX. 1) состоит в знании той мысли (), «которая управляет всем чрез посредство всего». Мнение Лассаля, что () у Гераклита есть тоже, что () Анаксагора, однако, преувеличено и ссылка на платоновского Кратила не убедительна, потому что позднейшие ученики Гераклита легко могли, из уважения к учителю, приписать ему первенство и найти в его учении, в готовом виде, все высказанное позднейшими философами.