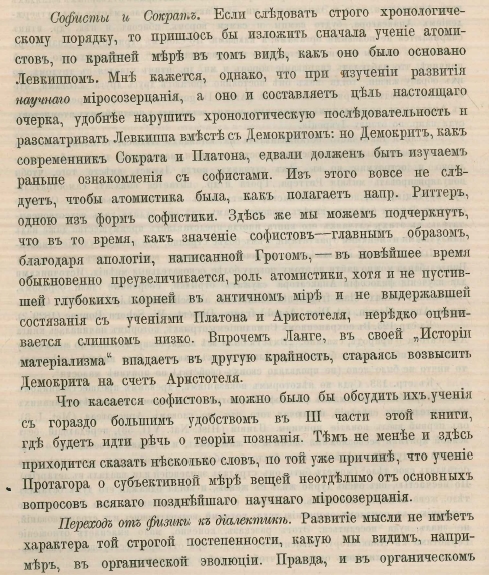
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Софисты и Сократ. Если следовать строго хронологическому порядку, то пришлось бы изложить сначала учение атомистов, по крайней мере в том виде, как оно было основано Левкиппом. Мне кажется, однако, что при изучении развития научного миросозерцания, а оно и составляет цель настоящего очерка, удобнее нарушить хронологическую последовательность н рассматривать Левкиппа вместе с Демокритом: но Демокрит, как современник Сократа и Платона, едва ли должен быть изучаем раньше ознакомления с софистами. Из этого вовсе не следует, чтобы атомистика была, как полагаете напр. Риттер, одною из форм софистики. Здесь же мы можем подчеркнуть, что в то время, как значение софистов—главным образом, благодаря апологии, написанной Гротом, — в новейшее время обыкновенно преувеличивается, роль атомистики, хотя и не пустившей глубоких корней в античном мире и не выдержавшей состязания с учениями Платона и Аристотеля, нередко оценивается слишком низко. Впрочем, Ланге, в своей „Истории материализма" впадает в другую крайность, стараясь возвысить Демокрита на счет Аристотеля.
Что касается софистов, можно было бы обсудить их учения с гораздо большим удобством в III части этой книги, где будет идти речь о теории познания. Тем не менее и здесь приходится сказать несколько слов, по той уже причине, что учение Протагора о субъективной мере вещей неотделимо от основных вопросов всякого позднейшего научного миросозерцания.
Переход от физики к диалектике. Развитие мысли не имеет характера той строгой постепенности, какую мы видим, например, в органической эволюции. Правда, и в органическом мире иногда встречаются скачки или резкие уклонения, но они очень редки и большею частью подвергаются быстрому исключению. В мире умственном и нравственном порою встречаются переходы, имеющие чисто революционный характер. Ближайшее исследование таких переворотов показывает, однако, в большинстве случаев, что явление, кажущееся внезапным и неожиданным, было подготовлено другими, мало заметными, но все-таки существенными стадиями развития. Эти общие начала вполне применимы к тому умственному движению, которое обнаружилось в древней Греции в эпоху Сократа. Зачатки софистических приемов и выводов, без сомнения, могут быть найдены еще в начале развития греческой философии. Правда, в этот период, философия была, но преимуществу физикой, т.е. объяснением явлений природы. Однако, уже очень рано были поставлены некоторые вопросы этики и теории познания; явились также попытки анализа некоторых основных понятий, как теоретическая), так н практического характера. Некоторая доля скептицизма замечается, прежде всего, по отношению к народными верованиям, иногда даже в форме полного отрицания наивного антропоморфизма; являются жалобы на ограниченность и скудость человеческих знаний и вместе с ними—сомнения относительно возможности глубокого познания природы. Наконец, частью у Гераклита и его последователей, но главным образом, у элейцев, мы встречаем и более радикальные попытки— подвергнуть сомнению некоторые положения, кажущиеся самоочевидными. Но это еще не скептицизм и даже не диалектика в настоящем смысле слова, так как все философы досократовской эпохи выступают, в своих собственных физических и иных теориях, как чистые догматики. Лишь у Зенона, изобретателя общеизвестных софизмов о невозможности движения и др. в том же роде, мы видим значительное приближение к софистам и по приемам, и относительно результатов. То же можно сказать о некоторых позднейших учениках Гераклита.
Если рассматривать диалектику времен Сократа, как вполне изолированное явление, то, конечно, она представит много непонятного и может дать повод к самым разнообразным толкованиям и к противоречивой оценке. Заслугой английского ученого Грота было устранение ложного взгляда на софистов, как на каких-то врагов рода человеческого. Историческое происхождение и значение софистических учений было выяснено Гротом так, что возвращение к прежней оценке софистов стало невозможным. Тем не менее, необходимо считаться с тем фактом, что Грот выступал против взглядов, общепринятых в его время, и уже одного этого обстоятельства было достаточно, чтобы придать его собственным рассуждениям чересчур апологетически характер. В конце концов, Гроту не удалось избежать некоторых преувеличены; в еще более крайней форме те же рассуждения были воспроизведены и развиты Льюисом. Истина, по моему мнению, заключается в том, что диалектика софистов явилась прямым последствием недостаточного развития физической философии, в которой пытливый ум древнего грека не нашел ответов на многие, занимавшие его вопросы. Сократ и софисты (несмотря на то, что Сократа считают главным борцом против так наз. софистики) представляют две стороны одного и того же движения, направленного против односторонности, шаткости и противоречивости прежних физических теорий. Если Сократ впервые стал сознательно п по преимуществу заниматься этикой, то и за софистами та заслуга, что они обратили внимание на вопрос о субъективном отношены к явлениям и, таким образом, навсегда устранили наивнореалистическую точку зрения. В другом отношены, софисты принесли не мало вреда, приучив к чересчур высокой оценке диалектики и к чисто формальному решению вопросов; но и в деятельности Сократа не все можно считать благодетельным: его отношение к физике было несправедливостью по отношению к прежним философам, так как, из факта существования противоречивых и неясных теорий, Сократ вывел не необходимость положить более прочное основание естествознание, а невозможность решения большинства физических вопросов, которые поэтому и представлялись ему праздными. Даже к геометрии он относился не с полной терпимостью, полагая, что изучение геометрии должно ограничиться практическими вопросами землемерия.
Полного антагонизма между Сократом и софистами потому уже нельзя ожидать, что софисты, как доказано впервые тем же Гротом, никогда не представляли какой-либо сплоченной группы, партии или философской школы, а поэтому те или иные мыслители, получившие от Платона или от Аристотеля название софистов, порою высказывали взгляды, имевшие между собою очень мало общего. Были софисты, принципиально отрицавшие всякое естествознание; были и такие, которые сами преподавали физические науки, считая свои знания энциклопедическими. Общим для всех был диалектический способ доказательств и опровержений: но как было замечено уже древними писателями, диалектика в высокой степени характеризуете элейца Зенона, которого, однако, к софистам обыкновенно не причисляют.
Из предыдущего уже ясно, что я не могу примкнуть, без всяких оговорок, к взглядам Грота. Но 'так как эти взгляды интересны сами по себе и, сколько мне известно, мало подвергались разбору в русской литературе, то придется изложить их настолько подробно, насколько позволяют цели моего очерка.
До появления капитального труда Грота (писатель этот, за мечу кстати, не был цеховым историком, и быть может, именно поэтому и внес свежую струю в изучение античного мира), софистов изображали, по большей части, самыми мрачными красками, видя в них развратителей юношества, чуть ли не ответственных за моральный и политический упадок Афин; в Сократе и Платоне видели добродетельных поборников правды и истины, сокрушавших все хитросплетения, придуманные афинскими фарисеями (если позволительно так выразиться). Грот показал всю ошибочность такого огульного осуждения софистов. Он доказал, что слово софизм приобрело уничижительное значение лишь в более поздние времена, под влиянием полемики Платона против некоторых софистов; при чем сами Платон и платоновский Сократи не всегда осуждали софистов так безусловно и так резко, как это делали некоторые новейшие исследователи; далее Грот показали, что Платон решительно отвергали виновность софистов, как развратителей народа, так как, по мнению Платона, величайшими софистом был, в сущности, сам афинский народ, и софисты лишь удовлетворяли общему спросу. Наконец, не без основания указано Гротом и то обстоятельство, что некоторые из так наз. софистов, особенно Продик, пользовались репутацией высокой личной нравственности и уважением того же Сократа, которого выставляют их безусловными противником. Не мало значения имеет и то, что сочинения софистов утеряны, тогда как сохранились главные произведения полемизировавшего с ними Платона, которого и следует считать сильнейшим их противником, влагавшими порою свои собственный мысли в уста Сократа.
Но мне кажется, что Грот в своей апологии софистов недостаточно различили два вопроса. Одно—осуждать софистов, как отщепенцев, противопоставляя пм Сократа и Платона, другое—порицать их учение, по существу. Первая точка зрения может быть ошибочною, тогда как вторая может все-таки оставаться правильною. При этом, правда, окажется, что многие пункты порицания в одинаковой мере применимы и к софистам, и к их противнику — Платону. Главный из них тот, что и Платон, в своей блестящей полемике против софистов, не редко оказывается, если не по выводам, то по методу, весьма недалеко ушедшими от своих противников.
Относительно происхождения софистических учений Грот сообщает, в сущности, мало данных. Апологетические стремления привели его к утверждению, что софисты вовсе не составляли школы или секты; это, конечно, вполне основательное мнение; тем не менее нельзя отвергать, что все мыслители времени Сократа и Платона имеют между собою нечто общее, отличающее их от старинных философов физиков. Это общее явилось результатами некоторых социальных, политических и чисто умственных стремлений. Сваливать все на развращение нравов, бывшее последствием пелопонесской войны, теперь никто не станет; Грот резко оспаривает это мнение и, вопреки свидетельствам Фукидида и многих других древних писателей, утверждает, что никакого повреждения нравов даже не было. Появление софистов, по Гроту, по оказывается естественным последствием развития афинской образованности. Софистом, говорить Грот, называли первоначально, вообще мудрого, умелого и сведущего человека. Даже искусных рапсодов—странствующих певцов—порой называли софистами, что мы встречаем у Геродота. Тот же писатель называешь Солона и Пифагора софистами, а Диоген из Аполлонин, современник Геродота, один из позднейших представителей ионийской школы, применяет название софистов ко всем ионийским философам. Не только в комедии Аристофана, но и у Эсхина, Сократ причисляется к софистам, и даже Аристотель называете одного из учеников Сократа—софистом. Очевидно, что тот смысл слова—софист, к которому мы так привыкли, составляет, главным образом, последствие влияния сочинений Платона. Нельзя, однако, отрицать, что неодобрительный смысл слова софист был вполне известен во времена Аристотеля, н даже писатели, сочувствовавшие софистам, неохотно называли себя этим именем; но это опять-таки последствие Платоновой полемики.
Под влиянием критики Грота, у некоторых новейших писателей явилась склонность к переоценке исторического значения софистов. Протагор, за его учение о субъективности или относительности всех человеческих познаны, был превознесён, даже, как один из крупнейших мыслителей всех времен. Помимо Льюиса, высказавшегося в пользу софистов даже раньше Грота и затем с радостью подкрепившего свое мнение солидной аргументацией знаменитого историка, преувеличенную оценку софистов мы видим у многих писателей позитивного и научно критического направления. Достаточно указать на известную „Историю Материализма" А. Ланге
Все что мы знаем о софистах, позволяет думать, не смотря на утрату их сочинений, что ни одно из их произведений не равнялось—ни по талантам авторов, ни по значению, хотя бы
любому из диалогов Платона. Среди софистов были люди, несомненно почтенные, вроде Продика, ученые, остроумные и красноречивые, но ни одного мыслителя, который проложил бы, в настоящему смысле этого слова, новый путь — единственным исключением является учение Протагора о человеке, как мериле всех вещей. Да н в этом случае, по-видимому, дело ограничилось несколькими блестящими, но неглубокими мыслями. Аристотель высказал, что изречение Протагора вовсе не отличается такою глубиною, как можно думать, если увлечься громкими словами. Может быть, это мнение Аристотеля не вполне беспристрастно: однако, оно показываете, что приписывать учению Протагора значение вливаю философского открытия значить в свою очередь извращать историю развития мысли. Что касается Аристотеля, он считал утверждение Протагора почти бесплодной тавтологией, в сущности равнозначащей с тем положением, что человек является мерилом всех вещей, насколько он представляет познающее и мыслящее существо, или, другими словами, что самое познавание и восприятие представляют меру всех вещей, а это, по мнению Аристотеля, тривиально и бесплодно. Едва ли величайший философ древности был бы такого мнения, если бы, в утраченных для нас сочинениях Протагора, он нашел сколько-нибудь научно обоснованную теорию относительности наших знаний, а не остроумную, но смутно выраженную догадку блестящего, но поверхностного ума, который и сам не подозревал полного значения того, что им было только намечено.
И действительно, вся история софистических учений показываете, что мысль, высказанная Протагором, и аналогичные мысли других софистов, оказались бесплодными в применении к науке (и даже вскоре выродились в такие крайности субъективизма, которые позволили Платону написать не мало блестящих страниц, где софисты побиваются их собственным оружием. Здесь не место излагать эту полемику: достаточно заметить, что Платон вышел победителем из борьбы, и что влияние софистов, насколько оно обусловливалось индивидуальными особенностями того или иного учителя, оказалось хотя и сильным, но недолго временным, так что уже Аристотель мог отнестись к софистам, как к явлению, отошедшему в историю. Иное дело те черты деятельности софистов, которые коренились в общих условиях древнегреческого умственная) развития; здесь не может быть и речи об ответственности софистов, так как, напр., склонность к чисто диалектическому решению вопросов проявляется даже у Аристотеля.
Сказанное о софистах отчасти определяет и отношение к ним Сократа, которое до сих пор сплошь и рядом изображаются неверно историками философии. Сократ вовсе не избрал своей специальной миссией изобличение и опровержение софистов, как это иногда утверждают. Он одинаково охотно оспаривал и софистов, и обыденные мнения, и предрассудки, и старинных физиков, включая ближайшего к нему по времени—Анаксагора. Да и в спорах с софистами он, насколько можно судить по данным, сообщаемыми Ксенофонтом, значительно отличался от платоновского Сократа, —тонкого диалектика, в котором мы узнаем самого Платона. Можно сослаться на то, что Платон был более способен понять Сократа, нежели Ксенофонт; известно, однако, что сам Сократ, читая первые диалоги Платона, нашел, что здесь ему приписано многое, о чем он сам и не думал. Сверх того, мы имеем еще одного свидетеля, Аристотеля, который не раз указывает на уклонения Платона от методов и выводов Сократа. В общем, если кое в чем платоновский Сократ дополняете того, которого мы знаем со слов Ксенофонта, то едва ли следует признать его более верным изображением; а у Ксенофонта Сократ совсем не имеет характера бойца, только и думающего о сокрушены софистики. Да и характер его полемики с софистами едва ли везде верно передан Платоном, и самая ирония Сократа приобретает у Платона чересчур саркастический оттенок.
Для нашей цели всего важнее исследовать, какое влияние могли оказать с одной стороны софисты, с другой—Сократ на развитие научного исследования мировых явлены. Разумеется, и в этом случае нет недостатка в противоречиях между новейшими историками.
А. Ланге полагает, напр., что Протагор обозначает собою великий, решительный поворотный пункт в истории греческой философии. Он первый исходил не от объекта, не от внешней природы, а от субъекта, от духовного существа чело века. По Ланге, Протагор несомненно является в этом отношении предшественником Сократа и даже стоит, до известной степени, во главе целого ряда антиматериалистов—ряда, который обыкновенно начинают с Сократа. „Протагор сохраняете еще тесные соотношения с материализмом, именно потому, что исходит из ощущения, как Демокрит — из материи; он оказывается, однако, в резком противоречим с Платоном и Аристотелем, так как для него—и в этом отношении он также родствен с материализмом — единичное и индивидуальное оказывается существенным, тогда как для названных философов главное это общее. С сенсуализмом Протагора соединяется релятивизм, напоминающий нам Бюхнера и Молешотта". (Все это слова Ланге). Утверждение, что нечто существуете, требуете всегда ближайшего определения: в соотношении с чем оно существует или осуществляется, иначе это утверждение будет пустословием Точно также и Бюхнер, для того, чтобы преодолеть „вещь в себе", утверждает, что „все вещи существуют лишь друг для друга и без взаимных соотношений не означают ничего", и еще определеннее Молешотт: „Без отношения к глазу, куда он посылает лучи, дерево не существует".
Я привел эту цитату не для того, чтобы с ней полемизировать, но с целью показать, как далеко заходят иногда даже крупные мыслители и проницательные историки в своих аналогиях между классическим миром и новейшею эпохою. Здесь достаточно заметить, что самый термин материализм едва ли применим к физическим учениям, предшествующим Протагору, по той простой причине, что о материализме нельзя говорить до тех пор, пока еще не выработали определенного понятия о материи; но даже у Анаксагора это понятие довольно смутно. Справедливою я считаю ту мысль Ланге, что Протагор, действительно, в известном смысле может считаться предшественником Сократа, так как он обратил особое внимание на человека, в то время как прежние философы занимались, по преимуществу, природой. О каком-либо сознательном антиматериализме со стороны Протагора не может быть, однако, и речи.
Тот же Ланге, несмотря на то, что считаете Протагора предшественником Сократа, рассматривает деятельность Сократа, как начало „реакции в худшем смысле этого слова", направленной „против материализма и сенсуализма". По моему мнению, то, что пишет Ланге о Сократе и особенно об Аристотеле, может иметь значение для полемических целей, но имеет мало общего с действительной историей греческой философии.
Если теперь обратимся к наиболее беспристрастному исследователю, а именно к столько раз упоминаемому нами Целлеру, то и у него увидим не вполне удовлетворяющее нас объяснение происхождения софистических учений; но во всяком случае, это объяснение естественнее, и характеристика софистов полнее, чем у большинства историков. Подобно Ланге, Целлер видит в софистике некоторую реакцию против „материализма", но Целлер понимаете этот вопрос несколько иначе, чем Ланге. Древнейшая физика, по словам Целлера, была „материалистична" и поэтому носила в себе зародыш своей гибели. Если допустить, что существ уюте лишь телесные предметы, то все вещи материально протяженны и делимы, и все представления происходите от действия внешних впечатлений на телесную природу души, т. е. от чувственного опыта. „Если поэтому мы откажемся признавать истинность чувственных впечатлений, то, с этой точки зрения, исчезает вообще всякая истина и действительность". Подготовку софистического учения Целлер видит в учении Анаксагора о мировом уме. Хотя этот „ум" имел характер безличной силы, все же понятие о нем Анаксагор из влек из самопознания. Мысль Анаксагора, что некоторый сознательный агент управляет природой, заставила глубже анализировать наше собственное сознание и в конце концов привела к утверждению, что сознание господствует над всем и служить всему мерою.
Не отрицая влияния Анаксагора, нельзя упустить из виду и других, быть может еще более существенных, влияний. В особенности учение элейцев и Гераклита является важною подготовительною ступенью для софистики; большая часть парадоксов, которыми так щеголяли софисты, уже скрывается здесь. Влияние Эмпедокла менее существенно, несмотря на то, что один из самых известных софистов, Горгий, был, по-видимому, его непосредственным учеником; зато жреческий аппарат, которым обставил Эмпедокл свое учение, довольно хорошо гармонировал с напыщенными приемами большинства софистов.
Научные заслуги софистов ограничиваются почти исключительно областью филологии. Это и понятно, так как стремление к красивому изложению и к внешней убедительности I доводов вынудило софистов внимательнее присмотреться к формам и оборотам речи. У софистов мы видим первые серьёзные попытки грамматическая разбора; но и это искусство легко выродилось у них в погоню за грамматическими тонкостями, служившими предметом насмешек со стороны Платона. Стремясь к энциклопедизму, софисты, правда, занимались всевозможными науками, хотя не всеми в равной степени. Судя по показанию Платона, Протагор даже смеялся над теми из софистов, которые занимались естествознанием, нападал и на геометрию, на том основании, что в природе нет точно геометрических форм и допускал ее (подобно Сократу) лишь как практическое искусство. Другой софист, Антифон, занимался квадратурою круга; но Аристотель называет его поверхностным любителем, просто думавшим, что при достаточном увеличении числа сторон многоугольника можно в конце концов получить площадь круга. В области физических умозрений, софисты, большею частью, ограничивались скептицизмом, направленным, напр., против элейского учения о бытии. Особенно характерно в этом отношении заглавие (к сожалению, утраченного) сочинения Горгия: „О не существующем или о природе", которое, по-видимому, имело целью опровергнуть учение Парменида. Были софисты, занимавшиеся физикой, но они не имеют особого значения и большими влиянием не пользовались.
Почти исключительно диалектическое направление софистики показываете, что от неё нельзя ждать многого для познания природы. Более значения имеют софистические учения для вопросов гносеологического, этического и даже политического характера. Но об этом здесь не место распространяться.
Нет никакой надобности подчеркивать упадок нравственности в Афинах для того, чтобы объяснить чисто умственную сторону софистических учений. Учения эти представляют лишь преувеличение, а порою карикатуру того направления умственной деятельности, которое составляет основную черту греческой и, главными образом, афинской цивилизации в эпоху её наивысшего расцвета. Философские учения, каковы бы они ни были по содержанию, всегда неизбежно связаны с общим складом жизни; а в Афинах, после удачных войн с персами, жизнь сложилась как раз таким образом, что были даны все благоприятный условия для развития диалектической способности ума. Можно было бы предложить, в качестве благодарной темы для так наз. экономических материалистов, доказательство положения, что одною из главных причин такого диалектического направления афинской мысли был экономический строй, опиравшийся на рабский труд. Строй этот представляли свободными людям много умственного досуга, но в то же время приучал образованные классы относиться к науке не как к серьезному труду, а как к приятному времяпрепровождению. Конечно, и это—одна из причин пристрастия к диалектике; но беда в том, что кроме этой „главной" причины есть и другие, в такой же степени „главные", и если выбирать между причинами, то самою существенною, пожалуй, окажутся всеобщие законы развития мысли.
Далеко не в одних Афинах мысль уклонилась в сторону диалектики. Если оставить в стороне средневековую эпоху, в которой можно увидеть много заимствованного, то достаточно указать хотя бы на диалектику талмудической литературы, в которой встречаем имена, могущие фигурировать наравне с софистами. Однако, характер диалектических упражнений был в Греции совсем иной, чем у евреев, и это объясняется различием исторических и социальных условий. В то время, как еврейские мудрецы решали или отвлеченные богословские вопросы, или вопросы, вроде того, могут ли масло и вино считаться пищей и можно ли считать запрещенною в субботний день работою переноску одного полотенца десятью обрезанными евреями, — древняя греческая диалектика обратилась исключительно к вопросам светским, имеющим тесное соотношение с основными задачами научного знания. Она только односторонне поставила эти вопросы и раз решала их не научным методом; но самая постановка была, с научной точки зрения, вполне законна. Диалектика была неизбежным переходом от наивного натурализма к науке. Мы ясно видим, в чем состояла ошибка Зенона элейского, —ближайшего предшественника софистов, —когда он доказывал, что Ахиллес не может догнать черепахи: однако, эта ошибка была вполне законна, и разоблачение доводов Зенона возможно лишь для того, кто обладает отчётливым понятием о непрерывности, а понятие — это стало вырабатываться лишь со времен Архимеда. Поэтому не удивительно, что даже Аристотелю не удалось дать вполне удачного опровержения зеноновских софизмов, да и в новейшее время лица с недостаточным математическим образованием с трудом могут понять, где скрывается слабый пункт доказательств Зенона и видят его напр., в противоречии между эмпирическим и „абсолютным" пространством. Зенон своими парадоксами поставил, в сущности, вопрос капитальной важности, не имеющий ничего общего с метафизическими абсолютами —вопрос о различии между непрерывными и прерывными величинами. Решить ни ему, ни многим другим философами не удалось этого вопроса, по той простой причине, что они недостаточно сознавали его чисто математический характер и отделывались поверхностным метафизическим решением спора—там, где следовало сначала выработать отчётливые научные понятия. Но тоже применимо и к учениям мыслителей, специально именуемых софистами, вроде Протагора и Горгия. Поставленные ими вопросы, как напр. возбужденный Протагором вопрос о субъективности всякого познания, далеко не могут считаться праздными и бесплодными; но предложенное Протагором решение было поверхностно, оно основывалось на наивной, ненаучной психологии и, хотя с трудом могло быть опровергнуто, но не могло быть и принято сколько-нибудь глубокими умами, не говоря уже о таких гигантах мысли, каковы Платон и Аристотель. Основной грех софистов состоит, поэтому, не в том, что они развращали нравы, и даже не в том, что они возбуждали пренебрежение к истине; коренной недостаток их учений, обусловленный всей историей развитая греческой философии, состояли в том, что софисты ставили внешний аппарат мышления выше самой мысли, приучали ум удовлетворяться чисто диалектическими решениями и, обладая всеми признаками поверхностных и самодовольных дилетантов, доставляли афинскому юношеству внешний лоск образованности, не приучая к серьезной работе.
Было бы, однако, несправедливостью отрицать за софистами всякое положительное значение. Поверхностное образование имеет свои преимущества над грубыми невежеством, суеверием и косностью, и за софистами следует признать несомненную заслугу в деле очищения еще более грубых плевел, чем те, которые они сами посеяли. Правда, эта сторона деятельности софистов, в свою очередь, вызывала резкие обвинения, раздававшаяся еще в древности и продолжающиеся до наших дней. Невежество и фанатизм ничем так не дорожать, как своими умственными и нравственными покоем; этот покой был, несомненно, нарушен софистами: но за такое „развращение нравов" история должна вынести им оправдательный приговор или же осудить их заодно с Ксенофаном, Анаксагором, Сократом. Ксенофан уже выступил против народного антропоморфизма; Анаксагор навлек на себя преследования за свои физические теории, казавшиеся безбожными; крупнейший из софистов, Протагор, заявил, что не знает, существуют ли боги или нет. Такое заявление показалось слишком дерзкими влиятельным афинянам, у которых терпимость всегда ограничивалась требованиями личных выгод и угождением вкусами толпы—и Протагор был изгнан.
Другие софисты шли в своем отрицании еще глубже, касаясь иногда самых больных мест афинской жизни. Некоторые из них проводили явные космополитические тенденции; у других замечаются зародыши понятия о естественном праве, в противоположность положительными законами и традиционным обычаями; наконец, были и такие, которые прямо указывали на шаткость фундамента всей греческой цивилизации. Софист Ликофрон доказывал, что знатность есть лишь воображаемое преимущество, а Алкидамас прямо высказал, что противоположность между рабами и свободными неизвестна природе, и что рабство противно естественным законами. Эти замечательные слова сохранены Аристотелем в его „Политике", и они тем более важны для правильной оценки софистического движения, что сам Аристотель, не смотря на свой свободный от предрассудков, светлый и мощный ум, не решился посягнуть на рабство.
Учения софистов были, большею частью, крайне поверхностны, но упрекать этих учителей юношества в том, что они расшатали основы греческого строя, по малой мере, неосновательно. То, что они расшатали или пытались поколебать, было само по себе гнило и рано или поздно должно было пасть. И в конце концов, самым верным определением софистики оказывается данное еще Платоном: сам народ был величайшим софистом.
Если такая оценка деятельности софистов окажется правильною, то и взгляд на значение Сократа будете отличен от того, который до сих пор можно считать преобладающими; но в то же время наше мнение будет отличаться и от взглядов, вы сказываемых напр. Ланге. Видеть в Сократе представителя антиматериалистической „реакции в худшем смысле слова" так же неосновательно, как и признавать его святыми, изгоняющими софистических бесов. Это была кипучая, полная жизни, в высшей степени общительная натура, умевшая привлекать избранные умы, но раздражавшая многих. Ум Сократа, обладавший чрезвычайно развитыми аналитическими способностями, относился, в одинаковой мере, критически и к физическим теориям, и к формальной диалектике софистов.
Из предыдущего уже ясно, что, вслед за Гротом, Льюи сом и новейшим защитником софистов — Гомперцом, я не считаю возможным говорить о софистах, как об особой философской школе или направлении. Хотя я не схожусь с названными писателями в оценке деятельности софистов, но вполне признаю значение доводов в пользу того, что софисты были представителями не какого-либо философского миросозерцания, а известной профессии. В эпоху Сократа так называли, попросту, всех учителей, излагавших свои философские мнения за известную плату Факт получения платы за преподавание, представляя нововведение, хотя не совсем неслыханное, вызвал еще в древности нарекания на софистов; сам по себе, этот факт еще мало говорить о содержании учения, а собственно в продажности никак нельзя обвинять таких софистов, как Протагор или Горгий. Важнее то обстоятельство, что софисты впервые превратили преподавание в выгодное ремесло, удовлетворявшее чрезвычайно развившемуся спросу на образование. Этот ремесленный характер их деятельности, значительно отличавшийся от той идейной преданности знанию, какая характеризовала напр. Анаксагора и многих древнейших философов, сам по себе уже вынуждал софистов плыть до известной степени по течению, подлаживаясь под вкусы толпы и угождая господствующему настроению. Даже самые горячие сторонники софистов косвенно признают справедливость высказанной здесь оценки их деятельности. Так уже Грот, отстаивая честь оклеветанных софистов, заметил, что софисты были, по сравнению с Платоном, плохими
') Из этого не следует, чтобы, вслед за Гомперцом, мы решились назвать софистов „полупрофессорами, полужурналистами ()". Подобная „модернизация" древних профессий не только ничего не выясняет, но также способна сбить с юлку, как и утверждение Гомперца, будто в роли обвинителя против Протагора выступим один афинский кавалерийский офицер...
теоретиками и стремились совсем к иному—а именно старались подготовлять молодых афинян к деятельной жизни, обучая их искусству мыслить, говорить и действовать в Афинах. В моральном же отношении софисты, по словам Грота, стояли не ниже и не выше среднего уровня афинян. Но успех в политике и в частных гражданских отношениях был в древней Греции недостижим без красноречия и некоторой диалектической изворотливости; поэтому и не удивительно, что именно эти способности изощрялись софистами. Льюис находит, что это совершенно в порядке вещей, и что искусство превращать черное в белое нимало не противоречит нравственности, в доказательство чего ссылается на новейших адвокатов. Мы смотрим на этот вопрос несколько иначе, но все-таки не обвиняем софистов, и именно потому, что они были не руководителями, а людьми толпы. С этим согласен, в общих чертах, и новейший исследователь Гомперц, у которого читаем, что софисты в высшей степени зависели от своей публики и всеми способами старались угодить её вкусам и требованиям.
Отдельная характеристика хотя одного из выдающихся софистов необходима уже потому, что служить предохранением от слишком поспешных обобщений. Тем не менее, мы считаем возможным утверждать, что у всех, по преимуществу так называемых, софистов все-таки есть некоторые общие черты, зависящие не от какого-либо общего им всем миросозерцания, но от самого характера их профессии, требовавшей известных приемов, начиная с блестящей внешней обстановки, при которой они вели свои беседы с учениками, и кончая напыщенным красноречием. Наибольшее историческое значение из всех софистов должно быть, без сомнения, приписано Протагору.
К сожалению, и об этом софисте мы знаем главным образом лишь то, что передано Платоном—свидетелем далеко не беспристрастным и имевшим в виду исключительно полемические цели.
') Труд Гомперца, хотя далеко уступающий работам Целлера, составляем немаловажный вклад в литературу по истории греческой философии. Первый том этого сочинения вышел одновременно с I выпуском моей книги, а поэтому я не мог им раньше воспользоваться. Не думаю, однако, чтобы мне пришлось изменить многое моешь предыдущем изложении; некоторые взгляды Гомперца будут разобраны в своем месте.
Если оставить в стороне комментарии и полемику Платона, то окажется, что от учения Протагора, поскольку оно относится к теории познания, сохранилось лишь его знаменитое изречение: „Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, не существующих, что они не существуют". Сверх того, известно, что Протагор утверждал одинаковую истинность противоположных между собою положений. При скудости подлинных отрывков, приходится пояснять оба эти положения, основываясь на показаниях Платона, да еще не вполне сходящихся между собою (стоит сравнить его диалог Протагор с диалогом Феэтет), и дополнять их отрывочными показаниями Аристотеля и позднейших писателей, так напр. Порфирия и Секста Эмпирика. Не удивительно, что и у новейших писателей трудно ждать единодушия в оценке Протагора, тем более, что тут еще примешиваются идеалистические или, наоборот, реалистические симпатии и антипатии того или иного исследователя.
Между прочим, в немецкой литературе давно уже возбужден спор по вопросу, как следует понимать основное утверждение Протагора, а именно — подразумевал ли он под словом человек каждого индивидуальная человека или же родовое понятие? Другими словами, признавал ли Протагор, что каждый отдельный человек представляет собою мерило всех вещей, при чем приходится допустить столько мерил, сколько голов, или же речь идет о человеке вообще, т. е. об общечеловеческой природе, при чем допускается мерило, общее всем разумным существам. Из этих двух противоположных точек зрения, первая защищается напр. Ланге, тогда как вторую чрезвычайно энергично отстаивает в новейшее время Гомперц, считая ее своим открытием и разрывом с существующей традицией.
По словам Ланге: „Человек есть мера вещей; т. е. от наших ощущений зависит, какими кажутся нам вещи, и эта видимость есть единственное данное нам; стало быть, мерою вещей является не человек, с его общими и необходимыми свойствами, но каждая отдельная особь в каждый отдельный момент. Если бы речь шла о всеобщих и необходимых свойствах, то Протагор был бы настоящим предшественником теоретической философии Канта; но Протагор, как относительно влияния объекта, так и относительно субъекта, строго держался единичного восприятия. Далекий от того, чтобы иметь в виду человека вообще, —Протагор, строго говоря, не мог сделать даже индивидуума мерою вещей; действительно, отдельный человек изменчив; и если одинаковая температура покажется одному и тому же человеку, то холодной, то теплой, то оба впечатления, в тот и в другой момент, одинаково истинны". С этим Ланге сопоставляете и другое положение Протагора, а именно, „что противоположные утверждения равно истинны". Протагору не приходило на ум утверждать, что одно и тоже утверждение в устах того же человека справедливо или ложно. Он говорил только, что против каждого положения можно выставить другие, прямо ему противоположные. В этом учении Ланге видит первый шаг к учению Канта о явлениях. Признавая теоретическую ценность взглядов Протагора, Ланге указываете, однако на роковые этические последствия. Как замечено выше, Гомперц держится диаметрально противоположного взгляда; некоторые соображения этого ученого остроумны, но едва ли вполне убедительны. Во всяком случае, Гомперцу удалось показать, что вопрос подлежит пересмотру; и нам кажется, пересмотр этот, хотя едва ли приведет к принятию взглядов Гомперца, все-таки заставит несколько изменить взгляды на субъективизм Протагора. Быть может, в конце концов окажется, что спор, имеющий не маловажное значение с современной точки зрения, вовсе не представлялся таким существенным в эпоху, когда самое различение между родовыми и индивидуальными особенностями сознавалось еще крайне смутно.
Действительно, легко могло случиться, что сам Протагор сбивался в понимании выставленного им принципа, толкуя его то в родовом, то в чересчур индивидуалистическом смысле. Ведь приписываете же сам Гомперц такое двойственное понимание Протагора—Аристотелю, и мы не видим оснований отвергать, чтобы и сам Протагор не мог понимать себя таким же образом, с тем различием, что у него могло быть и такое смешение понятий, какого трудно ожидать от Аристотеля—основателя научной логики.
Для правильной оценки учения Протагора мы, однако, обладаем, как уже было замечено, настолько скудными данными, что определённое заключение по этому вопросу всегда окажется более или менее рискованным, исключая, однако того, что его учение не могло отличаться ни особенной обработкой, ни глубиной. Если верить новоплатонику Порфирию, жившему в конце III века от начала нашей эры (а не верить ему нет особых оснований), он читал сочинение Протагора, направленное против элейцев. Во всяком случай, можно считать несомненным знакомство Протагора как с учением элейцев, так и с Гераклитом: сходство никоторых положений Протагора с гераклитовыми бросается в глаза. Знаменитое изречение о человеке, как мере вещей, по согласному свидетельству нескольких писателей, стояло во главе одной из книг Протагора, и по всему видно, что сам Протагор придавал этому афоризму существенное значение. Не трудно допустить также, что формула Протагора имела отношение не к этическим вопросам: по всем дошедшим к нам комментариям, и даже из полемики Платона, ясно, что Протагор имел в виду не этику, а теорию познания. Поэтому единственным, действительно не выясненным, остается указанный выше вопрос о том, подразумевал ли Протагор в своем изречены, что истина ничем не отличается от призрачности и что истинно то, что кажется тому или иному индивидуальному человеку, или же он просто утверждал, что всякая истина относится к человеческой природе вообще, и что в этом смысле всякое положение относительно?
В пользу крайнего индивидуалистического толкования говорить, по-видимому, тот факт, что комментаторы Протагора приводить его основное изречение в связь с другим, пояснительным положением, состоящими в том, что известные состояния одного и того же человека видоизменяют характер его обычных восприятий. При этом прямо приводится пример, относящийся к индивидуальной изменчивости чувствований, под влиянием болезни: для страдающего желтухой, по словам Протагора, мед горек. По мнению Гомперца, это пояснительное утверждение имеет характер, хотя не лишенной значения, но все-таки „второстепенной и специальной истины". Согласиться с этим не трудно, но с добавлением, что эта „специальная истина" воспроизводить лишь в более конкретных терминах основную мысль Протагора, с которою находится в очевидной связи.
Является, однако, вопрос: можно ли утверждать, вслед за Гомперцом, что сущность учения Протагора составляет реализм, основанный на признании верховенства чувственного восприятия, находящегося в некотором соответствии с явлениями внешнего мира. Гомперц противопоставляет Протагора его современнику Мелиссу, второстепенному последователю элейского учения, провозгласившему, что человек не способен ни созерцать, ни познавать чего-либо существующего, —другими словами, что все предметы наших восприятий—пустые призраки, за которыми скрывается некоторое единое, неизменное бытие. Протагор, по мнению Гомперца, на оборот, восстановил права чувственного восприятия и противопоставили решительному отрицанию действительности чувственного мира—такое же категорическое утверждение. Человек или—добавляете Гомперц—человеческая природа есть мерило существования. Лишь действительное может быть воспринимаемо; человек не может переступить границ своей природы, но всякому его восприятию всегда соответствует нечто воспринимаемое, предметное.
Не сомневаясь в том, что в учении Протагора скрывался зародыш реалистического учения, было бы, однако, по нашему мнению, ошибкой последовать за Гомперцом в его истолковании. Полемика против элейцев вообще и Мелисса в особенности не безусловно требует реалистической точки зрения. Мы не считаем разумеется Протагора скептиком; мы говорим только, что центр тяжести его учения составляет вовсе не утверждение действительности воспринимаемого мира, но положение, признающее единственными мерилом всякой вообще реальности и нереальности чувственные и познавательные способности человека; утверждать при этом, что речь идет не об индивидууме, а о „человеке вообще", значить прибавлять к учению Протагора нечто не оправдываемое дошедшими до нас отрывками. Само собою разумеется, что Протагор мог бы обобщить свойства тех или иных индивиду умов и прийти такими образом к утверждению, относящемуся вообще к природе мыслящего существа; но если примем во внимание, что общие определения не ставились сознательно до времени Сократа, который именно п прославился этим стремлением к обобщению эмпирического материала, то утверждение Гомперца окажется, во всяком случае, сомнительными. Всего вернее, что Протагор выражался иногда н в таком смысле, который со ответствует общему определению человеческой природы; это в особенности могло случиться там, где он полемизировали с элейцами; но как только он пытался обосновать свое учение положительными образом, то сейчас сбивался на индивидуалистическую точку зрения, причём истинным признавалось уже то, что в данный момент кажется данному человеку. Действительно, против резкого отрицания феноменального мира, а в особенности против грубого выражения этой мысли Мелиссом, восставала человеческая природа; но для утверждения реальности этого мира пришлось бы разработать теорию относительности познаний и выяснить, в каком смысле они соответствуют известным процессам во внешнем мире, т. е. надо было создать теорию, совершенно недоступную тогдашней грубой психологии. Оставалось поэтому сослаться лишь на резкие индивидуальные различия восприятий, вроде тех, какие наблюдаются у больного по сравнению с здоровыми, а такое подчеркивание индивидуальных различий едва ли указывает на то, чтобы главною целью Протагора было выяснить некоторое общее свойство человеческой природы. Да и вообще, все известное нам о софистах, заставляет видеть в них скорее искусных казуистов, остроумно разбиравших частные вопросы и случаи, нежели людей, склонных к широким обобщениям. Сверх того, я полагаю, что большая часть историков философии (в том числе и Гомперц) слишком мало считаются с тем обстоятельством, что все системы досократовского или если угодно, доплатоновского периода (так как о подлинном учении Сократа мы знаем лишь из вторых рук) характеризуются некоторой смутностью определений и обобщений, и крайне сомнительно, чтобы Протагор в этом случай представлял исключение. Некоторые данные, подтверждающие наш взгляд, приводятся самими Гомперцом. Так он готов признать, что Протагор иногда возвращается к „наивному миросозерцанию" и что он „не всегда и не с достаточною строгостью различает между действительными восприятиями и извлекаемыми из них выводами". Сомнительно, поэтому, чтобы вся ответственность за обычные представления о Протагоре, как скептике, утверждающем равное достоинство двух противоположных мнений, должна быть возложена на Платона. Гомперц восклицает правда, что это „мнимое протагоровское учение" едва ли различается от „настоящего сумасшествия" и что такому учению оказывают слишком много чести, если называют его „крайним субъективизмом или скептицизмом". Резкое утверждение, но мало согласное с историческими развитием мысли Если Протагор не всегда достаточно ясно различали между чувственными восприятием и мнением, то удивительно ли, что и возможность одновременного или разновременного существования (двух противоположных восприятий, относящихся к одному и тому же объекту, легко могла привести его к допущению, что точно также и два противоположных мнения всегда равно законны и одинаково соответствуют истине. Если же мы присмотримся к эристике, искусству, которое занимало Протагора, как и большую часть софистов (Протагор написал особую книгу об искусстве доказывать и возражать), то догадка превратится почти в уверенность, и станет крайне сомнительным, чтобы взаимное отношение между познающим и познаваемым представлялось Протагору в виде объективного критерия истины
В одном пункте я безусловно схожусь с Гомперцом, а именно, что Протагор ни в каком случае не может считаться скептиком в настоящем смысле этого слова. Скептицизм есть сомнение или в самой действительности, или в возможности её познавания; между тем у Протагора мы видим, наоборот, необычайное доверие к чувственному восприятию, даже отличающее его от большинства предшественников. Если уж непременно следует применять новейшие понятия к истории греческой мысли (такие применения я считаю всегда более или менее неточными), то никак не Гераклита (как это иногда делают), а Протагора следует признать первым сенсуалистом. В своем месте было показано, что сенсуалистическое толкование, придаваемое некоторыми исследователями учению Гераклита, не имеет прочных оснований; иное дело Протагор, у которого чувственное восприятие и вытекающие из него мнения прямо выставляются как основы знания, единственно возможного для человека, причем мы не видим у Протагора ясная различения между ощущением, восприятием и даже суждением. Его, поэтому, всего вернее следует признавать не скептиком, а представителем первичной, еще наивной формы релятивизма, в которой нет места даже ясному различению между отвлеченными понятиями и непосредственными данными опыта. Это видно между прочим из полемики, направленной Протагором против математиков и вызвавшей некоторые замечания Аристотеля. Протагор основательно утверждал, что геометрические абстракции, вроде прямой линии, окружности и т. п. не соответствуют эмпирически данным линиям, кругам и т. д.; но отсюда он совершенно ошибочно вывел теоретическую несостоятельность геометрии, видя в ней лишь пригодное для узкопрактических целей искусство. Если его в этом случае считать (как это делает Гомперц) предшественником Гельмгольца и других новейших математиков и философов, утверждающих эмпирическое происхождение геометрических аксиом, то это будет чересчур произвольным сопоставлением, так как Протагору и на ум не приходило, чтобы точные геометрические образы были также в конце концов продуктами опыта: он, наоборот, полагал, что так как опыт не дает математической точности, стало быть, эта последняя есть не более как противоречащая опыту фикция, которая вовсе допущена быть не может в роли научной истины. Это как раз обратное тому, что утверждает новейшая эмпирическая школа, которая видит оправдание и возможность практического применения геометрических аксиом и основанных на них теорем именно в том, что они, не будучи копиями физически измеряемых и наблюдаемых форм, но представляя пределы, к которым стремится измерение и наблюдение, тем не менее были бы призрачностями, праздными, если не немыслимыми, не имей мы возможности достигать хотя приближенной точности. В природе нельзя найти точного круга; но к такому кругу приближают нас сначала наблюдаемые явления (видимый горизонт, радуга и т. п.), а затем и воспроизводимые нами искусственно (помощью циркуля). Геометрический круг есть предел, к которому стремятся приблизиться круги, известные из опыта; и без этого последнего, самое понятие о круге едва ли могло бы у нас даже составиться. Но как пределы эмпирически данных форм, геометрические образы—не произвольно придуманные нами фикции, а научные определения, покоящиеся на опытном основании. Считать опыт верховным началом и на этом основании отвергать геометрию как науку, яко бы не согласную с опытом, значите быть не сторонни ком, а противником учения об эмпирическом происхождении геометрических аксиом и определений. А что возражения Протагора против геометров имели именно такой смысл, видно из его полемики против астрономов, которых он, на этот раз с большим основанием, упрекал в несогласии с наблюдением.
Остановившись так долго на учении Протагора, я уклонился, по-видимому, в сторону от исследуемого мною предмета; однако, такое уклонение было неизбежно. Какова бы ни была историческая роль Протагора, этот философ или софист—дело не в названии—обозначает собою один из главных пунктов в истории греческой мысли, как раз в тот момент, когда она обратилась от объяснения окружающей природы к основным вопросам познания и морали. А это неизбежно привело и к новому направлению в естествознании
Еще раньше Грота, Гегель в своей „Истории Философии" выступил в защиту софистов, и уже поэтому нельзя придать особого значения тому обстоятельству, что Льюис (отлично изучивший книгу Гегеля), в свою очередь, несколькими годами предварил Грота. Во всяком случай, за Гротом остается та заслуга (признаваемая за ним и Льюисом), что он первый поставил вопрос о софистах на более объективную почву. Даже чересчур апологетический тон Грота находишь оправдание, как реакция против прежней „высоконравственной" критики. Стоит просмотреть страницы, исписанные против софистов Шлейермахером, Риттером, Брандисом, Питальбаумом, и мы поймем, что Грот имел никоторое право сказать: „Мне известно мало исторических личностей, с которыми поступали бы так сурово, как с так наз. софистами". Так напр. Риттер и др. доходят до того, что призывают в свидетели против софистов—Аристофана и в то же время прославляют Сократа, как противника софистов. На это Грот очень остроумно возражает, что если Аристофан свидетельствует против кого-либо в своей комедии „Облака", то, конечно, против Сократа, так как нет доказательств чтобы Аристофан, несмотря на карикатурные преувеличения, вовсе не имел в виду именно его. Непонятно, почему в виде доказательства, направленного против софистов, приводят произведение, в котором осмеяны не софисты, а тот, кого считают их противником
Целлер, принимая некоторые из выводов Грота, не заходит, однако так далеко в апологии софистов. Он пытается указать, что, хотя, действительно, никакой „софистики" в смысле особого учения не существуешь, однако у софистов есть некоторые родовые черты, как напр. отвращение от физических и всех чисто теоретических исследований, ограничение задачами узко практического характера, скептицизм, искусство диспутировать и т. п. На самом деле у софистов скорее можно отыскать общие профессиональные черты, чем общую теоретическую подкладку.
Относительно денежного вознаграждения, которое получали софисты, мнения делились еще в древности, хотя большинство осуждало их. Что софисты были тем не менее в большом почете, ясно даже из диалогов Платона, где описывается, с каким восторгом относилось к софистам юношество, жаждавшее знаний. Сверх того, мы знаем, что многие из лучших людей Греции благоприятствовали софистам. Так, Эврипид был почитателем Протагора; в доме Эврипида Протагор впервые прочел свое сочинение, начинавшееся с сомнения, существовали богов, —сочинение, которое вслед за тем, по доносу одного богатого афинянина, было предано уничтожению. Историк Фукидид был учеником софистов, а к некоторым из них, напр. к Продику (См. Plato, Theaetet), даже Сократ посылал своих учеников; Перикл дружил со многими софистами.
Огромное большинство исследователей придерживаются мнения, что Протагор был лет на 20 старше Демокрита. Мнение это разделяется Целлером, Гомперцом, Виндельбандом и мн. др. и косвенно подтверждается хронологическим сопоставлением обоих названных философов с Сократом. Этого одного, в связи с отношением, господствовавшим в древности между старшими и младшими, достаточно для отвержения басни, по которой Протагор был учеником Демокрита. Льюис, вообще склонный к передаче подобных басен, считаем, однако, апокрифичным рассказ, что Демокрит „заметил Протагора, как носильщика, выказавшего особую изобретательность в связывании узла, и благодаря этому стал обучать его философии". Тем не менее Льюис считает возможным обсуждать вопрос о влиянии Демокрита на Протагора и полагаем, что благодаря учению Демокрита, Протагор „отверг элейское учение о едином и признал тождество мысли с ощущением". Не замечая, однако в дошедших от Протагора отрывках ни малейшего намека на знакомство с атомистикой, Льюис заявляем, что „Протагор отверг атомы, а вместе с тем отверг и интуитивное мышление" так как „понятие об атомах, недоступных чувству, приводить к признакам интуитивного мышления". Не более основательную аргументацию сходных положений находишь у Ланге в его Истории материализма. Здесь на стр. 131 книги I (3е нем. изд. 1876 года) в прим. 31 читаем: „Рассказ о носильщике (Протагоре) следует считать басней, хотя именно в этом случае следы предания восходят очень далеко. Вопрос о том, был ли Протагор учеником Демокрита, связан с очень трудно разрешимым вопросом об определении возраста. Мы оставим его нерешенным. Однако и в том случае, если бы господствующее мнение, по которому Протагор лет на 20 старше Демокрита, было кем-либо доказано достаточно удовлетворительно, влияние Демокрита на сенсуалистическую теорию познания, данную Протагором, чрезвычайно правдоподобно, а в этом случае пришлось бы допустить, что Протагор, первоначально лишь ритор и учитель в области политики, выработал свою настоящую систему лишь позднее, именно во время своего второго пребывания в Афинах, в умственном общении с своим противником Сократом, в эпоху, когда произведения Демокрита уже оказали влияние". „Чрезвычайная правдоподобность" этого сказания освещается хотя бы тем фактом, известным из дошедших до нас подлинных слов самого Демокрита, что когда Демокрит прибыль в Афины, уже не в первой юности и выработав свою систему, то в Афинах никто не знал ни об его учении, ни об его личности; между тем как прибытие Протагора в Афины, судя по несколько карикатурному, но в общем ни мало не заслуживающему недоверия изображению Платона, было великим событием дня, так как слава Протагора и других выдающихся софистов гремела далеко. Сверх того, как земляк Демокрита, Протагор едва ли имел надобность узнать его систему лишь во время своего второго пребывания в Афинах, если, вообще, он когда-либо успел познакомиться с этой системой. Так как эпизодическая сторона жизни как Демокрита, так и Протагора не дает ни малейшей точки опоры для мнения, защищаемого Ланге, то автору остается сослаться на характер того и другого учения. Здесь, однако, Ланге колеблется, так как на стр. 128 мы находим у него утверждение, что „внутренние основания говорят скорее в пользу позднейшего положения Демокрита", тогда как на стр. 132 оказывается, что изречение Демокрита об относительности ощущений сладкого и горького представляет естественный переход от чистого объективизма старинных физиков к субъективизму софистов. В конце концов, Ланге при I знает, что несомненным является влияние на Протагора учения Гераклита (с чем и мы, разумеется, согласны) и что лишь позднее к этим первичным элементам присоединилось данное Демокритом приведете чувственных свойств к субъективным впечатлениям". Если принять во внимание, что учение о „человеке как мере вещей" всеми и всегда признавалось за оригинальнейшую часть учения Протагора, то мы отказываемся понять, почему Ланге, ставящий Протагора вообще довольно высоко, не допускает возможности возникновения этого учения на почве, подготовленной с одной стороны учением элейцев, включая диалектику Зенона, с другой—Гераклитом. Разумеется, признавать Протагора лишь учеником Гераклита было бы неосновательно, но это едва ли кто-либо утверждает. Шаг вперед по сравнению с Гераклитом был сделан не только тем, что Протагор перенес центр тяжести гераклитовского „противоречия" из объекта в субъект, но и тем, что у Протагора, на самом деле, господствует сенсуалистический взгляд на источники познания, который напрасно пытались найти у Гераклита. Слишком большое значение придает влиянию Гераклита Фрей (Ргеи, Quaestiones Protagoreae, Bonnae 1845); сочинение его важно по обилию собранного материала. Здесь можно (S. 150) напр. найти сведения о Протагоре, как учителе красноречия. Основательно мнение Фрея и Ланге (Frei, S. 110; Lange, Gesch, d. Mat. I, 132 Anm. 33), что истинным ядром философии Протагора (Ланге прибавляет «в её законченном виде», — прибавка, по-моему, излишняя) следует считать никак не Гераклитовское „все течет" (положение, относящееся к объективному миру), но учение о субъективной мере вещей, которое, по словам Фрея, привело „душу к сознанию самой себя и поставило ее выше вещей".
Подлинное изречение Протагора гласить (). Вследствие неопределённости слова (); означающего и что, и как, невозможно решить, идет ли речь о свойствах вещей (как существуют) или просто о их существовании (что существуют). Изречение Протагора было поставлено во главе одной из его книг, но в точности не известно какой—была ли эта книга „О возражениях и опровержениях", считаемая чем то вроде учебника эристики (искусства спорить) или же книга, озаглавленная „Истина". Виндельбанд высказывает догадку (Ист. др. филос. русск. пер., стр. 102) что „Истина" составляла первую часть трактата „О возражениях"; но в сущности вопрос о том, в какой именно книге Протагор высказал свое основное положение, очень маловажен, так как мы ровно ничего не знаем о содержании книг.