В этом разделе публикуются тексты "Философии Действительности" в современной орфографии. Возможно удастся собрать их в одну бумажную книгу. Попытка сбора средств на издание не удалась.
Сканированные оригиналы в pdf:
Избранные главы "Философии Действительности", список материалов на этом сайте:
***
Невероятна биография доктора натуральной философии Филиппова Михаила Михайловича, издателя журнала "Научное Обозрение", впервые опубликовавшего работу К.Э. Циолковского о покорении космического пространства, переводчика трудов К. Маркса и Ч. Дарвина на русский и Д. Менделеева на французский. Автора более 300 научных работ.
Оказалось, что Филиппов М.М. является автором двухтомного труда "Философия Действительности", издававшегося дважды в 19 веке, но больше никогда не переиздавашегося.
Михаил Михайлович Филиппов погиб (умер) в 1903 году при постановке опыта по передаче энергии взрыва на расстояние, его история легла в основу романа А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" и множества версий о таинственных "лучах смерти".
О деятельности ученого подробно рассказывается в энциклопедиях, в сети можно найти сканы его работ с биографиями ученых и мыслителей древности, роман о Севастопольской битве был высоко оценен Л.Толстым и переиздавался совсем недавно. Но его философское наследие, в отличие от популяризаторского таланта и социальной борьбы (он был социалистом, марксистом и изобретал оружие в уверенности, что оно поможет остановить кровопролитные войны) становится достоянием только сейчас (например см. Коробкова С.Н. "СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ М. М. ФИЛИППОВА" и другие ее работы).
Позиция Филиппова по отношению к марксизму и его последователям в России не устраивала захвативших власть революционеров, даже в воспоминаниях его сына, вышедших в 1960-х годах, на пике интереса к науке, рассказывается больше не о Филиппове, а о его борьбе с царской цензурой и о том, что в редактируемом им журнале "Научное обозрение", печатался В.И.Ленин и другие марксисты.
В 1895 году Филиппов М.М. закончил и издал двухтомный труд "Философия Действительности", который по своей идейной направленности не потерял актуальности и сейчас, когда во всем мире, и в России, происходят процессы обскурантизма, обратные Просвещению, которое вдохновляло интеллигенцию русскую и в 19 и в 20 веке.
По другому нельзя назвать процессы, идущие в российском образовании и шире - в культуре и обществе. Прошло более ста лет с момента выхода книги, но те идеалы, о которых пишет автор, так и остались идеалами, наука и научный метод развиваются, но метафизическое миросозерцание не отмирает, как виделось в конце 19 века, а наоборот, пытается "срастись" с наукой, "пристроиться".
Диалектический и исторический материализм - непререкаемые догмы советской философии - не принимали не только позицию доктора натуральной философии М.М Филиппова, но и материализм академика В.В.Вернадского являлся "еретическим", не вписывались в Программу построения Нового Мира, вместе с кибернетикой, генетикой и прочими "буржуазными отклонениями" от Генеральной Линии Партии.
Возрождение религиозности, устранение науки из общественной жизни и ее замена на "духовность" меняют вектор развития всего российского общества. Тем ценнее сегодня "Философия Действительности", где наука ставится автором в основу философии и общественной жизни. В предисловии автор пишет:
"История сама по себе едва ли представляет интерес, если из нее не извлекаются выводы, имеющие значение для настоящего и будущего; важнейшим же результатом моего труда я считаю тот вывод, что все вообще философские системы, пытающиеся отделить себя от науки, окончательно отжили свой век. Как бы ни были велики их заслугив прошедшем, для настоящего времени метафизические учения являются лишь тормозом, задерживающим развитие мысли, и поэтому должны быть признаны орудием регресса."
В 2016 году в Российской Государственной Библиотеке, Исторической Библиотеке (в Москве) и Российской Национальной Библиотеке (в Петербурге) удалось найти и отсканировать оба тома "Философии Действительности" и последний, мая 1903 года, предсмертный номер журнала "Научное Обозрение", где М.М. Филиппов начал публикацию философских размышлений о творчестве личности.
Беседа о М.М.Филиппове, история, наследие, восприятие - 06.04.24
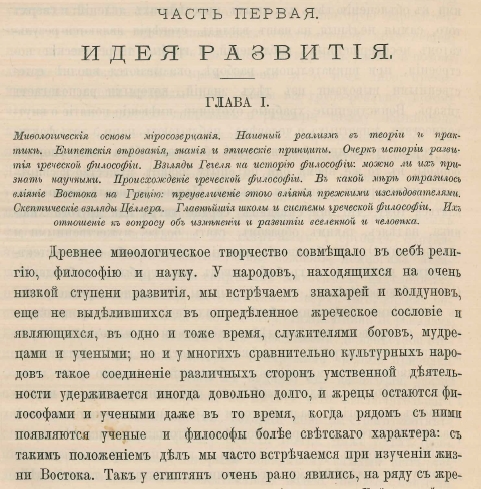
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
Мифологические основы миросозерцания. Наивный реализм в теории и практике. Египетские верования, знания и этические принципы. Очерк истории развития греческой философии. Взгляды Гегеля на историю философии: можно ли их признать научными. Происхождение греческой философии. В какой мере отразилось влияние Востока на Грецию: преувеличение этого влияния прежними исследователями. Скептические взгляды Целлера. Главнейшие школы и системы греческой философии. Их отношение к вопросу об изменении и развитии вселенной и человека.
Древнее идеологическое творчество совмещало в себе религию, философию и науку. У народов, находящихся на очень низкой ступени развития, мы встречаем знахарей и колдунов, еще не выделившихся в определенное жреческое сословие и являющихся, в одно и тоже время, служителями богов, мудрецами и учеными; но и у многих сравнительно культурных народов такое соединение различных сторон умственной деятельности удерживается иногда довольно долго, и жрецы остаются философами и учеными даже в то время, когда рядом с ними появляются ученые и философы более светского характера: с такими положением дел мы часто встречаемся при изучении жизни Востока. Так у египтян очень рано явились, на ряду с жрецами, врачи, имевшие даже разные специальности. Всем известна формула Огюста Конта, по которой теологический фазис развития предшествует метафизике и положительной науке. Не следует, однако, забывать, что эта формула далеко не выражает многих существенных черт развития человеческой мысли. Прежде всего, было бы ошибкой принять, что намеченные Контом фазисы, действительно, строго соответствуют каким-либо историческими эпохами. Если под теологическими фазисом подразумевать такое состояние мысли, когда все явления объяснялись сверхъестественными причинами, то можно смело сказать, что в чистом виде такой фазис никогда не существовали. Даже самые грубые дикари приобретают известный запас практических сведений, применяемых ими к объяснению тех или иных простейших явлений; и сверх того, самые нелепые, на наши взгляд, суеверия являются результатами несовершенных наблюдений, и грубые теоретические построения, при внимательном разборе, оказываются вполне естественными выводами из тех знаний, которыми располагает дикарь. Воинственные храбрые охотники, имеющие понятие о внутренностях животных и человека, наблюдают, например, тот факт, что сердце усиленно бьется после быстрого бега или упорной борьбы; в то же время они по опыту знают мужество и свирепость некоторых хищных зверей. Можно ли после этого удивляться тому, что они съедают сердце тигра или другого хищника, надеясь, такими образом, стать более мужественными и свирепыми? Это не объяснение явления какими-либо сверхъестественными началами, а грубый вывод из грубых наблюдений. Само собою разумеется, что такие выводы постоянно переплетаются с суевериями, имеющими более отдаленное опытное происхождение, т. е. приводящими от действительности к иллюзии и вынуждающими некультурная человека блуждать в мире призраков, вроде двойников, мертвецов, оборотней и всякая рода демонов. Однако, не следует забывать, что, одновременно и параллельно с мифологией, развивается и грубое опытное знание вполне реалистическая характера: несомненно, что даже у наименее культурных народов разные знахари и колдуны порою обладают, на ряду с нелепейшими заговорами и средствами, также и действительными эмпирическими познанием свойств целебных трав н другими подобными сведениями. С другой стороны, уже у наименее цивилизованных народов выделяются отдельный лица, большею частью старики, воплощающие в себе житейскую мудрость и нравственный понятия. Таким образом, на ряду с более или менее развитой мифологией, возникают и первобытные знания, и правила нравственного поведения, хотя освящаемые волею богов, но слишком очевидно вытекающие из чисто житейских потребностей — и поэтому или совершенно чуждые всякой сверхъестественности или пользующиеся чудесными элементом, лишь как побочною примесью. Вообще, понятие о сверхъестественном вовсе не так присуще неразвитому уму, как иногда утверждают. Понятие это могло получить некоторую определенность, лишь как противоположность естественному ходу вещей; но этот последний совсем не сознается грубым умом, а потому дикарь не может иметь представления и о чем либо, превышающем законы природы. Для дикаря все грубо реально, потому что он и не задается вопросом о различии между обыкновенными и необыкновенными, реальным и призрачными, но непосредственно наблюдает, насколько оказывается способным. Даже несомненные мифологические образы у наименее развитых племени далеко не так фантастичны, как у более культурных народов, вроде древних индусов. Вместо причудливых форм индийской мифологии, мы встречаем у грубых охотничьих и пастушеских племен лишь божков, немногими отличающихся от богатырей или свирепых животных, наделенных некоторыми человеческими способностями. Сверх того, видим не определенные представления о могуществе стихий. Наивный реализм древнейшей мифологии может быть прослежен до известной степени и у тех народов, которые обнаружили первые признаки философского мышления. Здесь мы видим, что философия, тесно сливаясь с религией и наукой, не имеет того исключительного характера сверхъестественности, который мог бы строго соответствовать теологическому фазису Огюста Конта. Даже у тех древних народов Востока, у которых по-видимому каждый шаг человека был определен божественною волею, первые попытки философского умозрения представляют не отвлеченные размышления о сущности и атрибутах божества, но наивную космогонию и не менее наивную этику, порою отмеченную печатью здравого реализма. Чуть ли не древнейшей книгой, известной в наше время историкам и археологам, должен считаться один египетский папирус, хотя и дошедший до нас в рукописи из эпохи XII династии, но списанный с оригиналов, относящихся к III и V династиям. В более позднем из этих двух отрывков мы встречаем любопытные нравственные наставления, хотя и данные в мифологической форме, но с вполне реальным житейским содержанием. В этом папирусе идет речь о печальной судьбе старика, жалующегося на упадок физических сил, притупление чувств и исчезновение интереса к жизни. Бог Гонген отвечает на жалобы старика, что каждый человек может быть полезен и что дело старика учить молодых добродетели. Затем указано, какие именно советы следует давать людям. Так, например, надо быть кротким со слугами, любить жену, жить с нею без ссор, кормить ее и украшать, дарить ей благовония и радовать ее, так как жена, по мнению древнеегипетского моралиста, есть добро, которое должно быть достойно своего обладателя.
- Информация о материале
- Просмотров: 1663
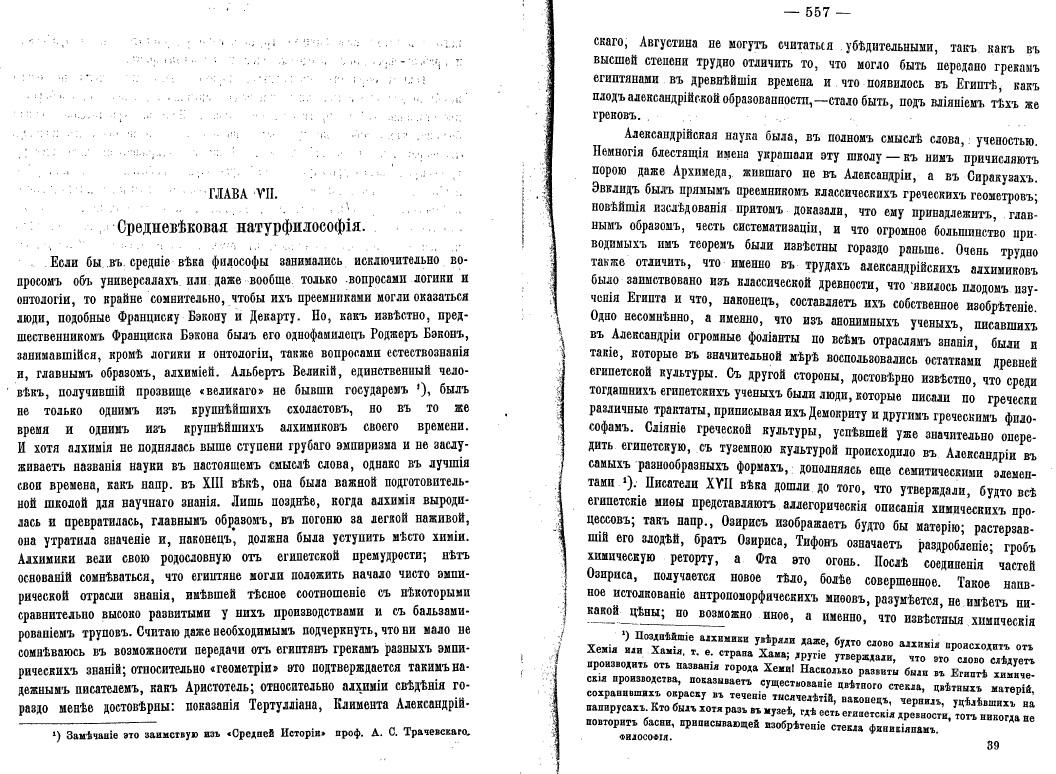
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
Том 2
ГЛАВА VII
Средневековая натурфилософия.
Если бы в средние века философы занимались исключительно вопросом об универсалах, или даже вообще, только вопросами логики и онтологии, то крайне сомнительно, чтобы их преемниками могли оказаться люди, подобные Франциску Бэкону и Декарту. Но, как известно, предшественником Франциска Бэкона был его однофамилец Роджер Бэкон, занимавшийся, кроме логики и онтологии, также вопросами естествознания и, главным образом, алхимией. Альберт Великий, единственный человек, получивший прозвище «великого» не будучи государем, был не только одним из крупнейших схоластов, но в то же время и одним из крупнейших алхимиков своего времени. И хотя алхимия не поднялась выше ступени грубого эмпиризма и не заслуживает названия науки в настоящем смысле слова, однако в лучшие свои времена, как например, в XIII веке, она была важной подготовительной школой для научного знания. Лишь позднее, когда алхимия выродилась и превратилась, главным образом, в погоню за легкой наживой, она утратила значение и, наконец, должна была уступить место химии. Алхимики вели свою родословную от египетской премудрости; нет оснований сомневаться, что египтяне могли положить начало чисто эмпирической отрасли знания, имевшей тесное соотношение с некоторыми сравнительно высоко развитыми у них производствами и с бальзамированием трупов. Считаю даже необходимым подчеркнуть, что ни мало не сомневаюсь в возможности передачи от египтян грекам разных эмпирических знаний; относительно «геометрии» это подтверждается таким надежным писателем, как Аристотель; относительно алхимии сведения гораздо менее достоверны: показания Тертуллиана, Климента Александрийского, Августина не могут считаться убедительными, так как в высшей степени трудно отличить то, что могло быть передано грекам египтянами в древнейшие времена и что появилось в Египте, как плод александрийской образованности, - стало быть, под влиянием тех же греков.
- Информация о материале
- Просмотров: 1997
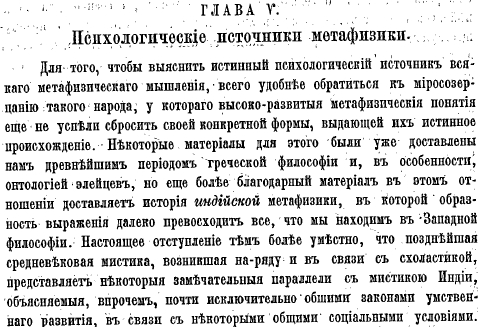
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
Том 2
Глава V.
Психологические источники метафизики
Для того, чтобы выяснить истинный психологический источник всякого метафизического мышления, всего удобнее обратиться к миросозерцанию такого народа, у которого высокоразвитые Метафизические понятия еще не успели сбросить своей конкретной формы, выдающей их истинное происхождение. Некоторые материалы для этого были уже доставлены нам древнейшим периодом греческой философии и, в особенности, онтологией элейцев, но еще более благодарный материал в этом отношении доставляет история индийской метафизики, в которой образность выражения далеко превосходит все, что мы находим в Западной философии. Настоящее отступление тем более уместно, что позднейшая средневековая мистика, возникшая наряду и в связи с схоластикой, представляет некоторые замечательные параллели с мистикою Индии, объясняемые, впрочем, почти исключительно общими законами умственного развития, в связи с некоторыми общими социальными условиями.
Греческая метафизика с самого начала стремилась стать на объективную почву. Ее интересовали либо вопросы генезиса и эволюции мира, либо мировая сущность, поэтому истинный психологический источник (перенесение человеческой личности во внешний мир), здесь большею частью замечается лишь при внимательном анализе. Индийская метафизика, наоборот, сразу выдает свое субъективное начало. И это вполне соответствует различению культурных и социальных условий. Стоит вспомнить о кипучей, деятельной жизни грека классического периода, об его участии в политике, об окружавших его произведениях искусства и сравнить это с созерцательной жизнью индусского брамина. Мудрецы, изучавшие Веды, мало интересовались внешним миром, а стало быть и происхождением этого мира. Их гораздо более интересовал вопрос, «каким образом индивидуальная душа стала тем, чем она есть, и каким образом явилась у нее вера в объективный, сотворенный мир» (Max Mailer, Theosophie, 267 (Leipzig, 1895).
Брахман - высшее существо, включающее в себе всю вселенную, и атман, человеческий дух иди душа, таковы основные понятия индийской теологии. Несмотря на ее пантеистический характер, отделение субъекта от объекта здесь отчетливее, чем в греческой метафизике, в других отношениях далеко более выработанной, чем индийская, мы знаем, напр., что даже у Аристотеля душа есть прежде всего функция тела, обусловливающая в нем чисто физиологические процессы питания и роста (питательная или растительная душа) и психофизиологические процессы раздражения, и ощущения (животная душа), и лишь умственная сторона души признается до известной степени отдельною от организма. В индийской метафизике, как, напр., в Упанишадах, в образной форме изложен умственный процесс, приводящий к отделению субъективных элементов от объективных. Пусть взят чистый, прозрачный кристалл горного хрусталя и положен подле красной розы, которая придаст ему розовый оттенок. Истинная природа кристалла т.е. его прозрачность и чистота, не отделена от ограничивающих условий, т.е. от красной розы, но как только мы познали ее отдельность, кристалл вновь принимает свою истинную природу, т.е. признается прозрачным и чистым. В таком же положении находится индивидуальная душа, пока она не отделена от ограничивающих ее телесных условий. «Друг мой, - сказано в одной индийской книге, - хотя атман живет в теле, он не действует и не оскверняется». Более резкий дуализм души и тела трудно себе представить. И тем не менее, это учение мирится с космологическим монизмом. Это происходит, таким образом, что индивидуальная душа оказывается, в сущности, тождественною с высшим существом, различие, между атманом и брахманом, душою и божеством, чисто относительное, зависящее от ложного и неполного познания. Зрящий оком, т.е. индивидуальный субъект, есть тот же «бессмертный, бесстрашный брахман».
- Информация о материале
- Просмотров: 1575
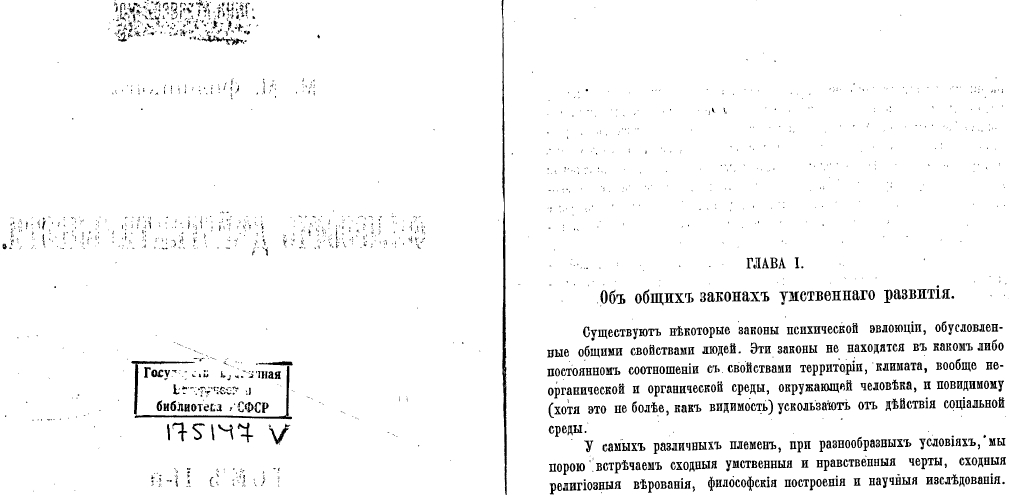
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
Том 2
Глава I.
Об общих законах умственного развития.
Существуют некоторые законы психической эволюции, обусловленные общими свойствами людей. Эти законы не находятся в каком либо постоянном соотношении со свойствами территории, климата, вообще неорганической и органической среды, окружающей человека, и невидимому (хотя это не более, как видимость) ускользает от действия социальной среды.
У самых различных племен, при разнообразных условиях, мы порою встречаем сходные умственные и нравственные черты, сходные религиозные верования, философские построения и научные исследования. В некоторых случаях такое сходство обусловливается прямым заимствованием известных верований, понятий и знаний у соседних, более высоко стоящих народностей. Однако, такое объяснение далеко не всегда оказывается удовлетворительным, а порою не имеет в свою пользу даже малейшей доли вероятия, но если мысль о заимствовании должна быть устранена, то остается лишь одно объяснение - общность психической природы всего человечества. В этой общности нет ничего непонятного, так как, во всяком случае, несомненно, что все существующие расы и племена земного шара более близки между собою, чем к каким-либо другим млекопитающим. А между тем, известно, что даже высшие животные обнаруживают в своих психических особенностях поразительные аналогии с человеком: так, например, некоторые из них несомненно улыбаются в веселом настроении и проливают слезы не только от физических страданий, но даже от печали. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса о единстве или множественности человечества, то есть о происхождении существующих рас от одного или нескольких корней, достаточно отметить тот несомненный факт, что родство между наиболее различающимися в культурном отношении племенами земного шара, во всяком случае, ближе родства между грубейшими из этих племен и существующими теперь высшими человекообразными обезьянами. При таком тесном зоологическом родстве между всеми отраслями человечества, психическое сходство их между собою не менее близко: значительные несходства, составляющие последствие долговременной первобытной культуры и исторической эволюции, не могут затемнить основных сходств. Когда Дарвин впервые увидел жителей Огненной Земли в их родной стране, он был поражен изумлением, - так значительно показалось ему различие между дикарем и цивилизованным человеком, однако, тот же Дарвин, наблюдая туземцев, проживших короткое время в Англии и затем, бывших вместе с ним на корабле, «Бигль», не мог не заметить множества психических черт, общих этим дикарям с наиболее цивилизованными расами.
- Информация о материале
- Просмотров: 1387
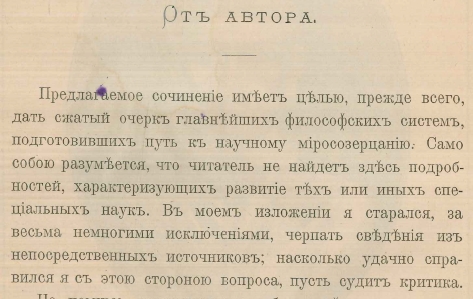
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
Том 1
От АВТОРА.
Предлагаемое сочинение имеет целью, прежде всего, дать сжатый очерк главнейших философских систем, подготовивших путь к научному миросозерцанию. Само собою разумеется, что читатель не найдет здесь подробностей, характеризующих развитие тех или иных специальных наук. В моем изложении я старался, за весьма немногими исключениями, черпать сведения из непосредственных источников; насколько удачно справился я с этою стороною вопроса, пусть судит критика.
Но помимо исторического обзора тех или иных систем, я имел в виду и другую задачу, а именно критический анализ тех или иных попыток создать целостное научно-философское миросозерцание. История сама по себе едва ли представляет интерес, если из нее не извлекаются выводы, имеющие значение для настоящего и будущего; важнейшим же результатом моего труда я считаю тот вывод, что все вообще философские системы, пытающиеся отделить себя от науки, окончательно отжили свой век. Как бы ни были велики их заслуги в прошедшем, для настоящего времени метафизические* учения являются лишь тормозом, задерживающим развитие мысли, и поэтому должны быть признаны орудием регресса.
С.-Петербург, 20 Октября 1895 г.
_______________
* Во избежание всяких недоразумений, поясняю, что под словом метафизический я подразумеваю: стоящий выше опыта (сверхопытный), т. е. тоже, что Кант именует термином трансцендентный (в отличие от трансцендентального, обозначающего у Канта предшествующее опыту, т. е. априорное). Что касается спора между априоризмом и эмпиризмом, он будет разобран в III части этой книги.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Возможна ли в наше время философия? Вот вопрос, невольно представляющийся в самом начале исследования, имеющего притязание на философский характер. Не пришла ли пора сдать в архив не только обветшалые метафизические системы, но и самое понятие о каком-то особом философском методе, отличающемся от методов науки? Быть может, если отбросить те обобщения, которые заимствуются философией из области тех или иных специальных наук, то на ее долю не останется ровно ничего, кроме громких, но бессодержательных фраз.
Подобные вопросы часто и настойчиво предлагаются в наше время, и такое скептическое отношение к философским умозрениям, противополагающим себя науке, имеет серьезные основания. Стоит вспомнить о ряде новейших попыток возродить метафизику, чтобы понять, что такого рода философствование не может не встретить решительного отпора со стороны людей, проникнутых духом современной науки. Видя, что люди, несомненно ученые и добросовестные, тратят время на созидание систем, возвращающих нас не только к монадам Лейбница, но порою и к нелепым схоластическим построениям, видя это, последователи опытного знания невольно начинают относиться подозрительно ко всякой философии и приходят к мысли, что наука окончательно вытесняет философские умозрения, сделав их, по малой мере, излишними.
Взгляд на судьбу недавно славившихся философских систем, по видимому, еще более подтверждает такие заключения. Стоит вспомнить о том огромном влиянии, которым пользовалась философия Гегеля, и сопоставить ее прежнюю славу с полнейшим равнодушием или даже забвением, испытываемым ею в наше время. Учение Гегеля не было сокрушено и опровергнуто позднейшими философскими теориями: оно просто было устранено победоносным шествием научной мысли. Конечно, существует мнение, до сих пор поддерживаемое запоздалыми почитателями Гегеля, что его система не осталась без влияния даже на развитие естественных наук. Утверждают даже, будто Гегель должен быть назван в числе прямых предшественников Дарвина, и на первый взгляд такое мнение может показаться очень правдоподобным.
Кому не известно, что дарвинизм представляет собою одно из выражений эволюционного учения; кто не знает и того, что основным принципом философии Гегеля является чрезвычайно резко подчеркнутая идея развития. И, тем не менее, утверждать, что Гегель предварил Дарвина, можно только при полном незнакомстве с натурфилософской частью учения Гегеля. Действительно, такое утверждение не только не может быть подкреплено даже сомнительными доводами, но оказывается прямо противоположным истине. Может показаться странным, но это несомненный факт, что Гегель был самым решительным противником биологического учения о развитии. Факт этот, конечно, объясняется тем, что диалектическое развитие идеи, составляющее сущность учения Гегеля, дает последовательные формы путем внезапного превращения: из данной формы является ее прямая противоположность без всяких промежуточных звеньев, и лишь затем наступает синтез противоположностей. Но такой процесс не имеет ничего общего с органическим развитием. Да и вообще, несмотря на необычайное искусство, с которым Гегель втискивал то или иное реальное содержание в свои диалектические схемы, в большинстве случаев это удавалось лишь путем натяжек и извращения действительности; а где это не удавалось вовсе, там оставалось только одно - полностью отрицать факты, или отвергать возможность объяснения. Отказаться от объяснения - значит признать бессилие системы; поэтому всего проще и удобнее не считаться с научно установленными фактами; этот последний путь и был избран Гегелем в его натурфилософских умозрениях. Немногих примеров достаточно для того, чтобы показать, что в применении к естествознанию диалектический метод Гегеля не дал ничего, кроме неудачных поэтических образов и еще более неудачных, порою крайне грубых попыток заменить научные факты выводами, необходимыми лишь для того, чтобы спасти систему.
- Информация о материале
- Просмотров: 1688