В этом разделе публикуются тексты "Философии Действительности" в современной орфографии. Возможно удастся собрать их в одну бумажную книгу. Попытка сбора средств на издание не удалась.
Сканированные оригиналы в pdf:
Избранные главы "Философии Действительности", список материалов на этом сайте:
***
Невероятна биография доктора натуральной философии Филиппова Михаила Михайловича, издателя журнала "Научное Обозрение", впервые опубликовавшего работу К.Э. Циолковского о покорении космического пространства, переводчика трудов К. Маркса и Ч. Дарвина на русский и Д. Менделеева на французский. Автора более 300 научных работ.
Оказалось, что Филиппов М.М. является автором двухтомного труда "Философия Действительности", издававшегося дважды в 19 веке, но больше никогда не переиздавашегося.
Михаил Михайлович Филиппов погиб (умер) в 1903 году при постановке опыта по передаче энергии взрыва на расстояние, его история легла в основу романа А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" и множества версий о таинственных "лучах смерти".
О деятельности ученого подробно рассказывается в энциклопедиях, в сети можно найти сканы его работ с биографиями ученых и мыслителей древности, роман о Севастопольской битве был высоко оценен Л.Толстым и переиздавался совсем недавно. Но его философское наследие, в отличие от популяризаторского таланта и социальной борьбы (он был социалистом, марксистом и изобретал оружие в уверенности, что оно поможет остановить кровопролитные войны) становится достоянием только сейчас (например см. Коробкова С.Н. "СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ М. М. ФИЛИППОВА" и другие ее работы).
Позиция Филиппова по отношению к марксизму и его последователям в России не устраивала захвативших власть революционеров, даже в воспоминаниях его сына, вышедших в 1960-х годах, на пике интереса к науке, рассказывается больше не о Филиппове, а о его борьбе с царской цензурой и о том, что в редактируемом им журнале "Научное обозрение", печатался В.И.Ленин и другие марксисты.
В 1895 году Филиппов М.М. закончил и издал двухтомный труд "Философия Действительности", который по своей идейной направленности не потерял актуальности и сейчас, когда во всем мире, и в России, происходят процессы обскурантизма, обратные Просвещению, которое вдохновляло интеллигенцию русскую и в 19 и в 20 веке.
По другому нельзя назвать процессы, идущие в российском образовании и шире - в культуре и обществе. Прошло более ста лет с момента выхода книги, но те идеалы, о которых пишет автор, так и остались идеалами, наука и научный метод развиваются, но метафизическое миросозерцание не отмирает, как виделось в конце 19 века, а наоборот, пытается "срастись" с наукой, "пристроиться".
Диалектический и исторический материализм - непререкаемые догмы советской философии - не принимали не только позицию доктора натуральной философии М.М Филиппова, но и материализм академика В.В.Вернадского являлся "еретическим", не вписывались в Программу построения Нового Мира, вместе с кибернетикой, генетикой и прочими "буржуазными отклонениями" от Генеральной Линии Партии.
Возрождение религиозности, устранение науки из общественной жизни и ее замена на "духовность" меняют вектор развития всего российского общества. Тем ценнее сегодня "Философия Действительности", где наука ставится автором в основу философии и общественной жизни. В предисловии автор пишет:
"История сама по себе едва ли представляет интерес, если из нее не извлекаются выводы, имеющие значение для настоящего и будущего; важнейшим же результатом моего труда я считаю тот вывод, что все вообще философские системы, пытающиеся отделить себя от науки, окончательно отжили свой век. Как бы ни были велики их заслугив прошедшем, для настоящего времени метафизические учения являются лишь тормозом, задерживающим развитие мысли, и поэтому должны быть признаны орудием регресса."
В 2016 году в Российской Государственной Библиотеке, Исторической Библиотеке (в Москве) и Российской Национальной Библиотеке (в Петербурге) удалось найти и отсканировать оба тома "Философии Действительности" и последний, мая 1903 года, предсмертный номер журнала "Научное Обозрение", где М.М. Филиппов начал публикацию философских размышлений о творчестве личности.
Беседа о М.М.Филиппове, история, наследие, восприятие - 06.04.24
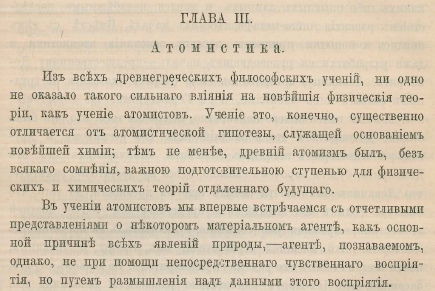
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА III.
Атомистика.
Из всех древнегреческих философских учений, ни одно не оказало такого сильного влияния на новейшие физические теории, как учение атомистов. Учение это, конечно, существенно отличается от атомистической гипотезы, служащей основанием новейшей химии; тем не менее, древний атомизм был, без всякого сомнения, важною подготовительною ступенью для физических н химических теорий отдаленного будущего.
В учении атомистов мы впервые встречаемся с отчетливыми представлениями о некотором материальном агенте, как основной причине всех явлений природы,—агенте, познаваемом, однако, не при помощи непосредственного чувственного восприятия, но путем размышления над данными этого восприятия.
Связь греческой атомистики с новейшими физическими, а вследствие этого и философскими учениями, была одною из причин крайне разноречивой оценки этого философского направления, причём спорили и о происхождении, об историческом значении атомистики. Поклонники Платона, как например Шлейермахер и Риттер, нередко относились к главе атомистического учения— Демокриту настолько пристрастно и враждебно, как будто речь шла о современном им философском противнике. Атомистов поместили, прежде всего, в разряд софистов, которых осуждали без всякого разбора; затем, специально по адресу атомистов, и еще специальнее—против Демокрита, выставлялся ряд обвинений, нередко в высшей степени курьезного характера. Демокриту ставилось например в вину даже его замечание, что он моложе Анаксагора. В этом Риттер увидел доказательство крайнего тщеславия Демокрита.
В новейшее время, более объективное отношение к Демокриту может быть найдено даже у писателей явно идеалистического направления, как например у Виндельбанда. Замечательно, однако, что при этом проявляется своеобразное стремление—доказать, что атомизм был в начале совершенно независим от каких-либо опытных данных и явился неизбежным последствием развития чисто метафизических начал. Вместе с тем явились и попытки приписать заслугу основания атомистики и даже разработки её руководящих начал—предшественнику Демокрита, Левкиппу, которого в свою очередь оказалось не трудным связать и с элейцами, и с Гераклитом. К сожалению, о Левкиппе почти ничего неизвестно, исключая того, что он был старше Демокрита и что последний был его учеником и другом. О некоторых взглядах Левкиппа, отличающих его от Демократа, будет, впрочем, сказано; здесь же достаточно заметить, что Левкипп был почти забыт еще в древности, до того, что Эпикур—один из виднейших представителей более поздней атомистики, выражал уже сомнение, существовал ли когда-нибудь Левкипп. Что касается Аристотеля, он, говоря о Левкиппе, почти всегда ставит его рядом с Демокритом. Во всяком случае, очевидно, что Демокрит значительно развил и дополнил все, заимствованное им у своего учителя и друга.
- Информация о материале
- Просмотров: 2995
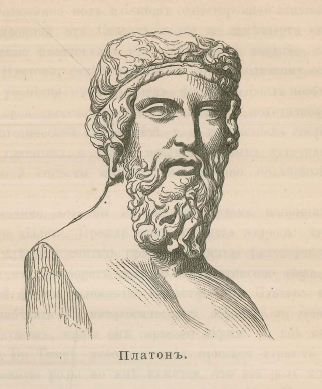
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА II.
Греческий идеализм и его отношение к естествознанию.
Платон. Его учение о мировой душе. Отношение космологии Платона к его учению об идеях.
Не впадая в особое преувеличение, можно было бы сказать, что настоящие история греческой философии начинается с Платона. Сведения наши о предшествующих философах так отрывочны, да и самые учения этих философов так еще необработаны, что во многих случаях приходится ограничиваться только догадками. Философия Платона, наоборот, может быть изучена почти с такою же полнотою, как и учение любого из новейших мыслителей. Если в ней и есть трудности, то их еще больше у многих философов XIX века.
- Информация о материале
- Просмотров: 1539
Подробнее: Греческий идеализм и его отношение к естествознанию.
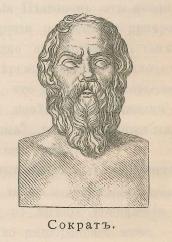
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Метод Сократа и его отношение к естествознанию. Я считаю особенно необходимым настаивать на том обстоятельстве, что главной чертой, отличающей Сократа от большинства современных ему учителей философии, т. е. софистов, был взгляд Сократа на нравственность, как результата разумного отношения человека к самому себе и к окружающему, и связанный с этим взглядом метод исследования этических вопросов. Но этот метод, каково бы ни было применение, данное ему самим Сократом, приложим ко всем вообще отраслям знания, так как он основан не на одной субъективной оценке того или другого явления, а вместе с тем на исследовании объективных условий нравственного поведения. Совершенно сходясь с софистами по вопросу о том, что центром тяжести философского исследования должен быть сам человек, Сократ, однако, не считал возможным освободить человека от внешнего, объективного мерила деятельности, а таким мерилом представлялись для него самые законы человеческого разума. Усвоение этих законов дается, по мнению Сократа, не мимолетными побуждениями: не произволом того или иного отдельного субъекта, но исследованием общих свойств человеческой природы. Такое исследование должно быть строго индуктивным, т. е. должно исходить из частных фактов, и путем обобщения и выработки общих понятий должно, в конце концов, привести к общим и общеобязательным правилам поведения. Нравственность является при этом не как нечто независимое от разума, но как практическая сторона этого разума, не могущая, поэтому, никогда стать с ним в противоречие.
- Информация о материале
- Просмотров: 2457
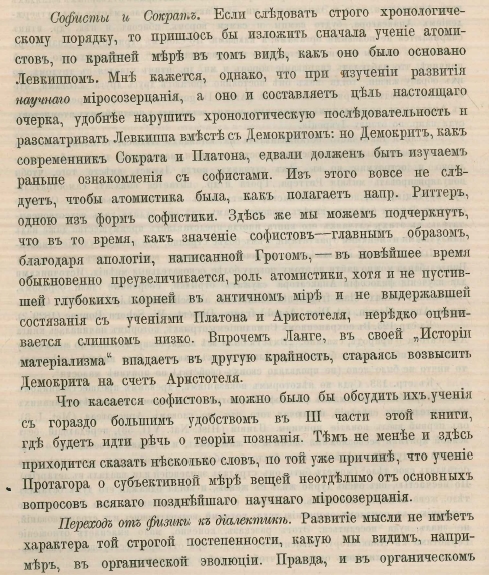
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Софисты и Сократ. Если следовать строго хронологическому порядку, то пришлось бы изложить сначала учение атомистов, по крайней мере в том виде, как оно было основано Левкиппом. Мне кажется, однако, что при изучении развития научного миросозерцания, а оно и составляет цель настоящего очерка, удобнее нарушить хронологическую последовательность н рассматривать Левкиппа вместе с Демокритом: но Демокрит, как современник Сократа и Платона, едва ли должен быть изучаем раньше ознакомления с софистами. Из этого вовсе не следует, чтобы атомистика была, как полагаете напр. Риттер, одною из форм софистики. Здесь же мы можем подчеркнуть, что в то время, как значение софистов—главным образом, благодаря апологии, написанной Гротом, — в новейшее время обыкновенно преувеличивается, роль атомистики, хотя и не пустившей глубоких корней в античном мире и не выдержавшей состязания с учениями Платона и Аристотеля, нередко оценивается слишком низко. Впрочем, Ланге, в своей „Истории материализма" впадает в другую крайность, стараясь возвысить Демокрита на счет Аристотеля.
Что касается софистов, можно было бы обсудить их учения с гораздо большим удобством в III части этой книги, где будет идти речь о теории познания. Тем не менее и здесь приходится сказать несколько слов, по той уже причине, что учение Протагора о субъективной мере вещей неотделимо от основных вопросов всякого позднейшего научного миросозерцания.
Переход от физики к диалектике. Развитие мысли не имеет характера той строгой постепенности, какую мы видим, например, в органической эволюции. Правда, и в органическом мире иногда встречаются скачки или резкие уклонения, но они очень редки и большею частью подвергаются быстрому исключению. В мире умственном и нравственном порою встречаются переходы, имеющие чисто революционный характер. Ближайшее исследование таких переворотов показывает, однако, в большинстве случаев, что явление, кажущееся внезапным и неожиданным, было подготовлено другими, мало заметными, но все-таки существенными стадиями развития. Эти общие начала вполне применимы к тому умственному движению, которое обнаружилось в древней Греции в эпоху Сократа. Зачатки софистических приемов и выводов, без сомнения, могут быть найдены еще в начале развития греческой философии. Правда, в этот период, философия была, но преимуществу физикой, т.е. объяснением явлений природы. Однако, уже очень рано были поставлены некоторые вопросы этики и теории познания; явились также попытки анализа некоторых основных понятий, как теоретическая), так н практического характера. Некоторая доля скептицизма замечается, прежде всего, по отношению к народными верованиям, иногда даже в форме полного отрицания наивного антропоморфизма; являются жалобы на ограниченность и скудость человеческих знаний и вместе с ними—сомнения относительно возможности глубокого познания природы. Наконец, частью у Гераклита и его последователей, но главным образом, у элейцев, мы встречаем и более радикальные попытки— подвергнуть сомнению некоторые положения, кажущиеся самоочевидными. Но это еще не скептицизм и даже не диалектика в настоящем смысле слова, так как все философы досократовской эпохи выступают, в своих собственных физических и иных теориях, как чистые догматики. Лишь у Зенона, изобретателя общеизвестных софизмов о невозможности движения и др. в том же роде, мы видим значительное приближение к софистам и по приемам, и относительно результатов. То же можно сказать о некоторых позднейших учениках Гераклита.
- Информация о материале
- Просмотров: 3221
Подробнее: Софисты и Сократ. Переход от физики к диалектике.
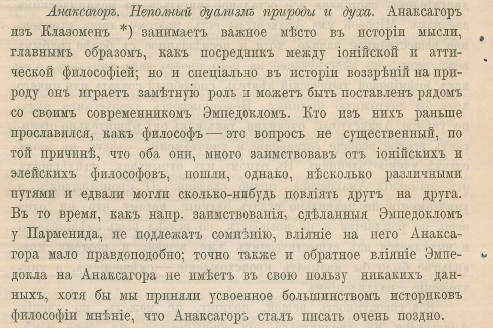
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Анаксагор. Неполный дуализм природы и духа. Анаксагор из Клазомен занимает важное место в истории мысли, главными образом, как посредник между ионической н аттической философией; но и специально в истории воззрений на природу он играет заметную роль и может быть поставлен рядом со своим современником Эмпедоклом. Кто из них раньше прославился, как философ — это вопрос не существенный, по той причине, что оба они, много заимствовав от ионийских и элейских философов, пошли, однако, несколько различными путями и едва ли могли сколько-нибудь повлиять друг на друга. В то время, как например заимствования, сделанные Эмпедоклом у Парменида, не подлежат сомнению, влияние на него Анаксагора мало правдоподобно; точно также и обратное влияние Эмпедокла на Анаксагора не имеет в свою пользу никаких данных, хотя бы мы приняли усвоенное большинством историков философии мнение, что Анаксагор стал писать очень поздно.
- Информация о материале
- Просмотров: 2859