В этом разделе публикуются тексты "Философии Действительности" в современной орфографии. Возможно удастся собрать их в одну бумажную книгу. Попытка сбора средств на издание не удалась.
Сканированные оригиналы в pdf:
Избранные главы "Философии Действительности", список материалов на этом сайте:
***
Невероятна биография доктора натуральной философии Филиппова Михаила Михайловича, издателя журнала "Научное Обозрение", впервые опубликовавшего работу К.Э. Циолковского о покорении космического пространства, переводчика трудов К. Маркса и Ч. Дарвина на русский и Д. Менделеева на французский. Автора более 300 научных работ.
Оказалось, что Филиппов М.М. является автором двухтомного труда "Философия Действительности", издававшегося дважды в 19 веке, но больше никогда не переиздавашегося.
Михаил Михайлович Филиппов погиб (умер) в 1903 году при постановке опыта по передаче энергии взрыва на расстояние, его история легла в основу романа А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" и множества версий о таинственных "лучах смерти".
О деятельности ученого подробно рассказывается в энциклопедиях, в сети можно найти сканы его работ с биографиями ученых и мыслителей древности, роман о Севастопольской битве был высоко оценен Л.Толстым и переиздавался совсем недавно. Но его философское наследие, в отличие от популяризаторского таланта и социальной борьбы (он был социалистом, марксистом и изобретал оружие в уверенности, что оно поможет остановить кровопролитные войны) становится достоянием только сейчас (например см. Коробкова С.Н. "СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ М. М. ФИЛИППОВА" и другие ее работы).
Позиция Филиппова по отношению к марксизму и его последователям в России не устраивала захвативших власть революционеров, даже в воспоминаниях его сына, вышедших в 1960-х годах, на пике интереса к науке, рассказывается больше не о Филиппове, а о его борьбе с царской цензурой и о том, что в редактируемом им журнале "Научное обозрение", печатался В.И.Ленин и другие марксисты.
В 1895 году Филиппов М.М. закончил и издал двухтомный труд "Философия Действительности", который по своей идейной направленности не потерял актуальности и сейчас, когда во всем мире, и в России, происходят процессы обскурантизма, обратные Просвещению, которое вдохновляло интеллигенцию русскую и в 19 и в 20 веке.
По другому нельзя назвать процессы, идущие в российском образовании и шире - в культуре и обществе. Прошло более ста лет с момента выхода книги, но те идеалы, о которых пишет автор, так и остались идеалами, наука и научный метод развиваются, но метафизическое миросозерцание не отмирает, как виделось в конце 19 века, а наоборот, пытается "срастись" с наукой, "пристроиться".
Диалектический и исторический материализм - непререкаемые догмы советской философии - не принимали не только позицию доктора натуральной философии М.М Филиппова, но и материализм академика В.В.Вернадского являлся "еретическим", не вписывались в Программу построения Нового Мира, вместе с кибернетикой, генетикой и прочими "буржуазными отклонениями" от Генеральной Линии Партии.
Возрождение религиозности, устранение науки из общественной жизни и ее замена на "духовность" меняют вектор развития всего российского общества. Тем ценнее сегодня "Философия Действительности", где наука ставится автором в основу философии и общественной жизни. В предисловии автор пишет:
"История сама по себе едва ли представляет интерес, если из нее не извлекаются выводы, имеющие значение для настоящего и будущего; важнейшим же результатом моего труда я считаю тот вывод, что все вообще философские системы, пытающиеся отделить себя от науки, окончательно отжили свой век. Как бы ни были велики их заслугив прошедшем, для настоящего времени метафизические учения являются лишь тормозом, задерживающим развитие мысли, и поэтому должны быть признаны орудием регресса."
В 2016 году в Российской Государственной Библиотеке, Исторической Библиотеке (в Москве) и Российской Национальной Библиотеке (в Петербурге) удалось найти и отсканировать оба тома "Философии Действительности" и последний, мая 1903 года, предсмертный номер журнала "Научное Обозрение", где М.М. Филиппов начал публикацию философских размышлений о творчестве личности.
Беседа о М.М.Филиппове, история, наследие, восприятие - 06.04.24
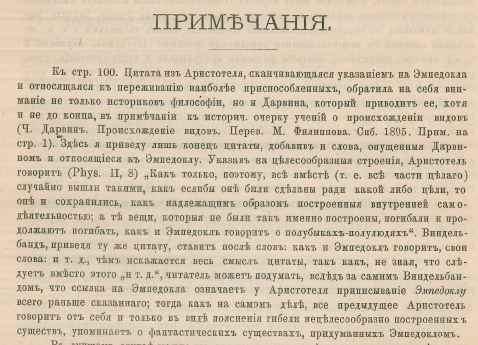
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Эмпедокл. Понятие об элементах. Первым ионийским философам удалось, до известной степени, освободить мысль от чисто мифологических понятий; им же принадлежат и первые попытки привести сложные тела, наблюдаемый в природе, к более простым началам. Всего естественнее было при этом допустить лишь одно начало, что мы и видим у первых ионийцев; этого уже требовала экономия мысли, стремящейся к самому простому объяснению. Избирая одно какое-либо начало, эти древние философы поступали вполне разумно, сообразно с тогдашними фактическими знаниями о природе. Для допущения нескольких элементов вместо одного, требовалось какое-либо основание, например, невозможность объяснить явление помощью только одного начала; и мы, действительно, видим, что постепенно философы начинают увеличивать число элементов и вводят все новые и новые начала н силы, причем на первых порах между силою и веществом не проводится ясного различия. Вода, воздух, огонь, теплое и холодное, влажное и сухое в тех или иных сочетаниях являются у ионийцев, и у пифагорейцев, и даже у стоящего особняком Гераклита. Любители аналогий между древнегреческим миром и Востоком могли бы привести по этому поводу ряд цитат, указывающих на сходную роль, приписываемую тем или иным стихиям египтянами, персами, индусами и даже китайцами; но, к сожалению, аналогии эти можно провести еще шире, указав, например, на полинезийцев, на нынешних и вымерших цветнокожих обитателей Америки и на другие племена, очевидно не оказавшие ни малейшего влияния на древнегреческую цивилизацию. Значение стихийных начал, каковы вода, земля, воздух, огонь настолько велико в жизни человека, что в той или другой форме эти начала необходимо появляются во всех древнейших космогониях; отсюда, однако, еще далеко до отчетливых представлены о стихиях, как элементах, из которых составлено все существующее; и по общему свидетельству всех надежнейших писателей, установка четырех элементарных начал должна быть приписана Эмпедоклу. Это философское открытие может в наше время показаться крайне наивным, но для своего века оно было крупными шагом вперед, так как без установления понятия об элементе нельзя было и думать о разложены сложного на простое и, обратно, о соединении простых тел в сложные, а в этой мысли скрывается уже первый зародыш будущей науки — химии. Вместе с тем, Эмпедоклу удалось уже освободиться от гилозоистического взгляда древнейшей ионийской школы; хотя и его объяснение не может считаться в настоящем смысле слова механическими, но важно уже то, что у него является мысль о недостаточности прежнего объяснения. Самоподвижность материи, в силу присущей ей жизненности, уже не удовлетворяет Эмпедокла. Он вынужден прибегнуть к полу механическим понятиям о дружбе и вражде, при чем первая играет роль соединяющей силы, вторая—роль разделяющей: не смотря на антропоморфическую терминологию, Эмпедокл пользуется этими силами, как чисто механическими притяжением и отталкиванием.
Эти основные положения философии Эмпедокла могли бы придать ей высокое значение в истории мысли, если бы этот философ не отличался двумя качествами, сильно понижающими его роль в истории философии: одно из этих качеств чисто нравственного порядка, другое относится к теоретической области. Прежде всего, Эмпедокл обладал чрезмерной склонностью к жреческим приемам. Отчасти это зависело от его занятий медициной, которая, в его время, была еще чересчур близка к магии и знахарству. По-видимому, он сам верил в свое полубожественное происхождение и вел себя, как настоящий чудотворец. Сохранились отрывки из поэмы Эмпедокла («Очищения»), где он самым наивным образом воспевает себя, как полубога, хотя, очевидно, несколько тяготится и своей ролью, и необычайными почестями, которые везде ему оказывались. Не следует забывать, что Эмпедокл жил в Агригенте, где почва была благоприятнее для чудотворцев, чем в Ионии и на греческом материке. Если вспомним, однако, о мужественной борьбе Ксенофана с народным антропоморфизмом, то придется сказать, что Эмпедокл, в этом отношении, сделал огромный шаг назад. Если же мы добавим, что почти одновременно с учением Эмпедокла явились первые начала гораздо более выработанное механическое миросозерцание атомистов, то это еще более заставит нас признать роль Эмпедокла не первостепенной. Впрочем, именно атомисты всего ближе примыкают к Эмпедоклу: этим объясняется высокое уважение, которым он пользовался у позднейших последователей атомистики, как например у Лукреция.
Не мешает помнить, что установленные Эмпедоклом элементы вошли в позднейшие философские и физические теории и держались крайне упорно, играя роль даже в воззрениях алхимиков.
Но прежде всего необходимо точнее установить, в чем именно состояло учение Эмпедокла о четырех элементах—а это тем важнее, что система Эмпедокла была не раз излагаема в извращенном виде. В нашем изложении мы будем пользоваться, кроме нескольких специальных работ об Эмпедокле, еще отрывками из его обеих поэм, собранными Пейроном, Штейном и др. Стихотворная форма произведений Эмпедокла не избавила их от искажений со стороны компиляторов и переписчиков; но зато здесь гораздо легче заметить порчу текста, и, сверх того, слог Эмпедокла, несмотря на склонность этого философа к ораторским приемам, далеко удобопонятнее, чем отрывистая и загадочная проза Гераклита. Большая часть недоразумений по поводу учения Эмпедокла относится, поэтому, лишь на счет позднейших писателей, например, новоплатоников, истолковывавших всех древнейших философов в своем духе и ради своих целей. Аристотель и здесь оказывается надежным руководителем.
- Информация о материале
- Просмотров: 2760
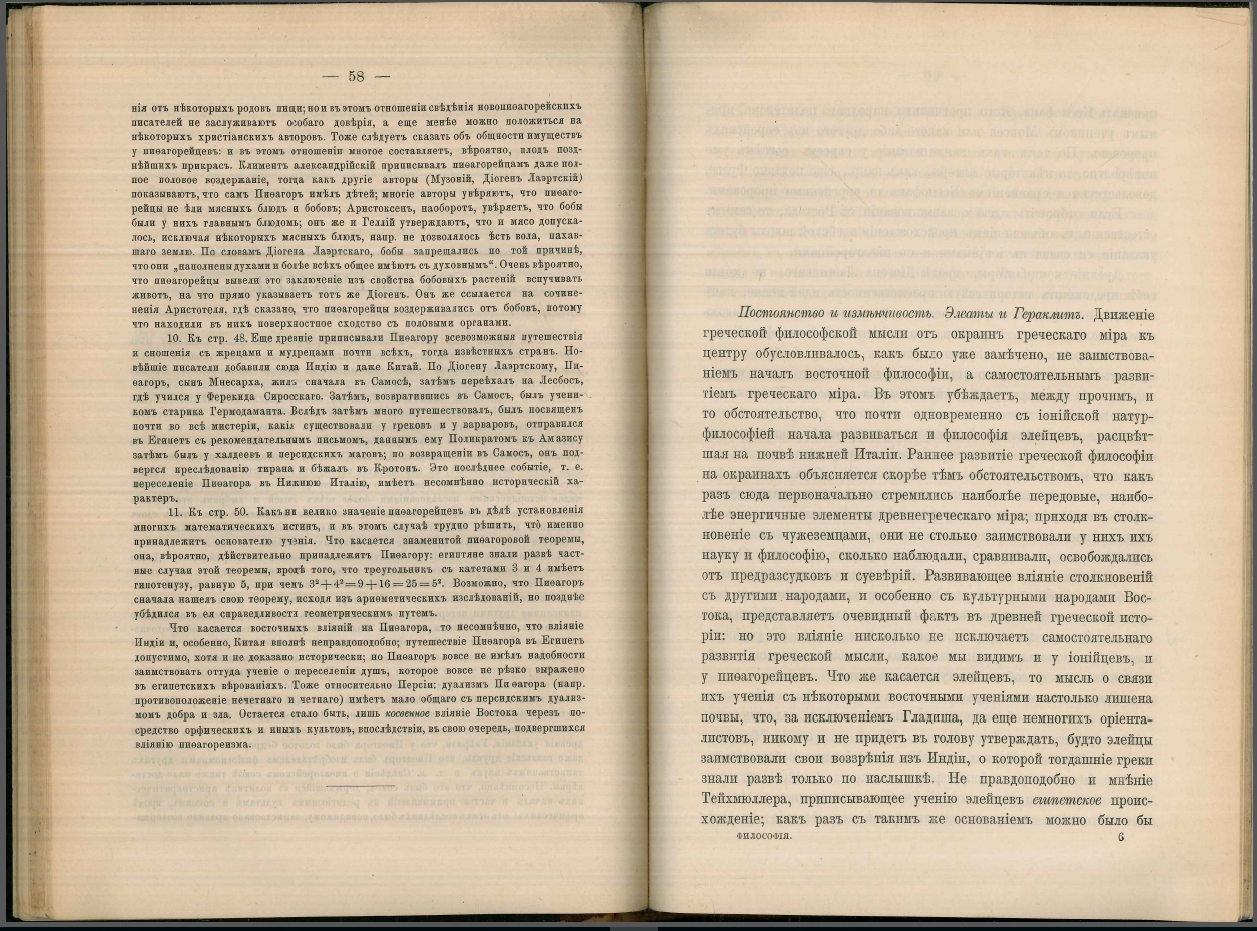
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Постоянство и изменчивость. Элеаты и Гераклит. Движение греческой философской мысли от окраин греческого мира к центру обусловливалось, как было уже замечено, не заимствованием начал восточной философии, а самостоятельным развитием греческого мира. В этом убеждает, между прочим, и то обстоятельство, что почти одновременно с ионийской натурфилософией начала развиваться и философия элейцев, расцветшая на почве нижней Италии. Раннее развитие греческой философии на окраинах объясняется скорее тем обстоятельством, что как раз сюда первоначально стремились наиболее передовые, наиболее энергичные элементы древнегреческого мира; приходя в столкновение с чужеземцами, они не столько заимствовали у них их науку и философию, сколько наблюдали, сравнивали, освобождались от предрассудков и суеверий. Развивающее влияние столкновений с другими народами, и особенно с культурными народами Востока, представляет очевидный факт в древней греческой истории: но это влияние нисколько не исключает самостоятельного развития греческой мысли, какое мы видим и у ионийцев, и у пифагорейцев. Что же касается элейцев, то мысль о связи их учения с некоторыми восточными учениями настолько лишена почвы, что, за исключением Гладиша, да еще немногих ориенталистов, никому и не придет в голову утверждать, будто элейцы заимствовали свои воззрения из Индии, о которой тогдашние греки знали разве только понаслышке. Неправдоподобно и мнение Тейхмюллера, приписывающее учению элейцев египетское происхождение; как раз с таким же основанием можно было бы признать Ксенофана, этого противника народного политеизма, прямыми учеником Моисея или какого-либо другого из еврейских пророков. Но так как заимствование у евреев совсем уже невероятно, то некоторые авторы, как например, еще недавно Фулье, довольствуются сравнением Ксенофана с еврейскими пророками.
Если отбросить идею о заимствовании с Востока, то самыми естественным объяснением происхождения элейской школы будет указание её связи с ионийцами и с пифагорейцами.
Древние компиляторы, вроде Диогена Лаэртского, не могли себе представить историческую преемственность идей иначе, как в виде непосредственной передачи тех или иных взглядов от учителя ученику. Впрочем, значение прямой философской традиции не должно быть ценимо слишком низко, особенно если принять во внимание, что устное преподавание в то время играло значительно большую роль, чем книжная мудрость. Ученики не редко не довольствовались одними учителем и приезжали из очень далеких местностей послушать какую-либо знаменитость. Философия все более распространялась в широких кругах общества; богатые люди считали необходимыми собирать у себя философов; многие из так называемых тиранов сами занимались философией или покровительствовали философам, а иногда и гнали их... Многие философы, по тем или иным причинам, спасаясь то от тиранов, то от черни, а иногда от врагов отечества, бежали в отдаленные города, распространяя философское образование. Борьба с персами и внутренние раздоры между греческими республиками способствовали подобным переселениям. Персидские войны, несмотря на внутренние раздоры между греками, укрепляли сознание национального единства и содействовали сближению родственных между собою культурных начал.
Это не могло не отразиться н на развитие философии, которое, в значительной степени, шло параллельно с политическим и культурным развитием Греции. После разрушения Милета и упадка многих ионийских колоний, малоазиатское побережье перестало быть центром философского движения. Ионийские выходцы частью основывали новые колонии, частью переселялись в центр греческого мира; этому соответствовало и перемещение философских центров, которые образовались в Нижней Италии (Великой Греции), а затем в Афинах.
Крайняя шаткость хронологических данных и скудость известий о жизни основателя элеатской или элейской школы—Ксенофана не позволяет установить точного отношения между этим философом и его ионийскими и пифагорейскими предшественниками. Диоген Лаэртский причисляет Ксенофана, как и всех элейцев, наравне с пифагорейцами и атомистами, к так называемой италийской школе и называет учителем Ксенофана—Телауга, сына Пифагора. К сожалению, самое существование Телауга не может считаться достоверным, и сверх того возможно, что Ксенофан был лишь несколькими годами моложе самого Пифагора, а потому не годился в ученики его сыну. Достоверно известно лишь следующее: Ксенофан не только был знаком с пифагореизмом, но и осмеивал некоторые стороны учения Пифагора, например, учение о переселены душ. Не менее несомненно и знакомство Ксенофана с ионийской натурфилософией, особенно с учением Анаксимандра.
Значение философии Ксенофана и вообще всей элейской школы состоит в том, что элеаты отнеслись отрицательно к идее изменения и превращения, противопоставляя ей идею неизменного и постоянного бытия. У первого основателя этого учения, Ксенофана, мы видим еще смешение догматических положений о неизменном бытии с наивными представлениями о строены видимого мира, при чем Ксенофан не сознает необходимости ни выставить какие-либо противоречия, ни разрешить их или объявить неразрешимыми. Учение о единстве и неизменности бытия приобретает характер догматической онтологии лишь со времен Парменида; еще далее идет Зенон, выставляющий диалектику, как полемическое оружие против признания феноменального мира. Это еще, однако, не скептицизм в полном смысле слова: Зенон, как и его предшественники, нисколько не сомневается во всем, так как он убежден в реальности единого и неизменного бытия; его сомнение или, точнее, отрицание относится лишь к миру явлений. Из этого видно, что мнение, приписывающее всей элейской школе скептический характер, не может считаться правильным.
Ксенофан, бесспорно, говорит об обманчивости человеческих чувств; но это не есть скептицизм, утверждающий, что вообще ничего нет достоверного. У Ксенофана замечается, сверх того, некоторая пессимистическая струя, всегда очень рано проникающая в философские умозрения; этот пессимизм представляет резкий контраст, например, с жизнерадостным миросозерцанием гомерической эпохи. Однако, такой пессимизм независим от скептицизма: мы видим грустные ноты уже у Гезиода, изображающего жизнь не как пир и веселье, но как арену труда и скорби; те же мотивы встречаются у древнейших моралистов и мудрецов; так Солону приписывается утверждение, что смерть лучше жизни—мысль прямо противоположная гомерическим представлениям, по которыми здешняя жизнь далеко предпочтительнее жизни в царстве призраков н теней. Как относился Ксенофан к этим вопросам, судить трудно: но скептиком он оказывается разве в том смысле, что признает слабость человеческой мысли. Очистить взгляды Ксенофана от позднейших примесей, вообще, не легко. Еще в древности, как например в подложном аристотелевском трактате об элейской философии (написанном кем-либо из позднейших перипатетиков), учение Ксенофана смешивалось с взглядами позднейших элеатов, особенно Зенона. Не удивительно, что подобное смешение встречается и у многих новейших писателей.
Происхождение учения Ксенофана можно объяснить следующим образом. Еще ионийская философия сделала попытку установить понятие о едином начале всех вещей, причем Анаксимандр пытался даже освободить это начало от эмпирически данных признаков, сделав его «невидимым, нерождаемым и неуничтожаемым». Существует даже указание, что Анаксимандр допускал неизменяемость мира, как целого, при изменяемости его частей.
Отсюда было недалеко до признания единого и неизменного начала: стоило только отвергнуть самую изменяемость. Для создания единства, как трансцендентного начала, было необходимо отвлечься не только от таких свойств вещей, каково жидкое, воздухообразное состояние, массивность и т. п., но и от всех вообще процессов, наблюдаемых в вещественном мире, всюду полном изменения и движения.
Уже Анаксимандр в значительной мере оставил почву опыта и пытался найти абстрактное начало вещей; он не мог, однако, настолько отвлечься от физического мира, чтобы придумать начало, не имеющее ничего общего с свойствами, который придавались им, наравне с другими ионийцами, эмпирически познаваемому веществу. Основное свойство начала всех вещей у Анаксимандра то же, как и у других ионийцев: его «беспредельное» самоподвижно и способно к самоизменению. Элейцы пошли далее в деле абстракции: но тем опаснее был избранный ими путь, все более и более разобщавший философскую мысль с опытным знанием и приведших, наконец, к отрицанию всех опытных данных.
Несомненная заслуга элеатов состоит в том, что они резко порвали связь философии с мифом. Но на место мифологического антропоморфизма они ввели другой, более утонченный, признав чисто логические обобщения и абстракции за абсолютную реальность. Неизбежною стороною нашего мыслительного процесса является соединение представлений в понятия, все большей и большей степени общности; отсюда можно было прийти к мысли, что существуете некоторое понятие, настолько общее, что в нем соединяются все другие. Подобный же процесс обобщения и отвлечения привел к установлению атрибутов этого единого всеобщего понятия. Потребность в постоянных и неизменных опорных пунктах ощущается нашей мыслью, которая не в состоянии следить за непрерывностью изменения; эта чисто психологическая потребность представляется с первого взгляда не свойством нашего ума, мыслящего при посредстве более или менее постоянных образов н понятий, но свойством самих вещей; элейцы, признав лишь единую, всеобъемлющую вещь, естественно приписали ей свойство абсолютной неизменяемости и прочности. Как ни метафизичны по-видимому эти начала, но и в них есть зародыш физического закона, и это потому, что метафизика не сразу могла порвать связь с действительным миром. Провозглашенное элейцами постоянство бытия было смутным предчувствием более совершенных положений, приведших в нашем веке к учению о постоянстве вещества и энергии. Таково, например, утверждение что свойством вечности и постоянства обладает не отвлеченное бытие, а всякое вещество. Заслуга развития этой стороны учения принадлежит не самим элейцам, хотя они и выставили основное положение: «из ничего не выйдете ничего», но атомистами, находящимся в связи не только с элейцами, но и с ионийской натурфилософией: во многих случаях, даже по некоторым основными вопросам, атомисты выступают не как продолжатели, а как прямые противники элеатов.
- Информация о материале
- Просмотров: 3333
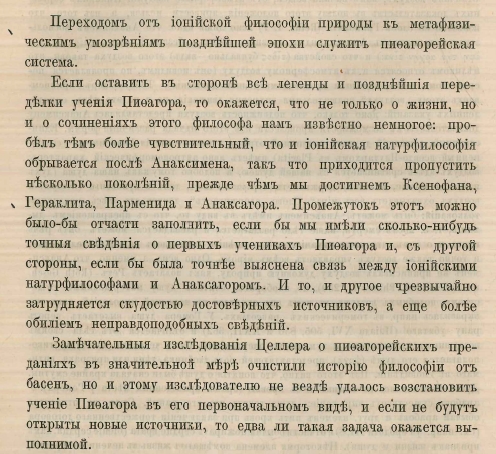
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИДЕЯ РА3ВИТИЯ
ГЛАВА I
(продолжение)
Переходом от ионийской философии природы к метафизическим умозрениям позднейшей эпохи служит пифагорейская система.
Если оставить в стороне все легенды и позднейшие переделки учения Пифагора, то окажется, что не только о жизни, но и о сочинениях этого философа нам известно немногое: пробел тем более чувствительный, что и ионийская натурфилософия обрывается после Анаксимена, так что приходится пропустить несколько поколений, прежде чем мы достигнем Ксенофана, Гераклита, Парменида и Анаксагора. Промежуток этот можно было-бы отчасти заполнить, если бы мы имели сколько-нибудь точные сведения о первых учениках Пифагора и, с другой стороны, если бы была точнее выяснена связь между ионийскими натурфилософами и Анаксагором. И то, и другое чрезвычайно затрудняется скудостью достоверных источников, а еще более обилием неправдоподобных сведений.
Замечательные исследования Целлера о пифагорейских преданиях в значительной мере очистили историю философии от басен, но и этому исследователю не везде удалось восстановить учение Пифагора в его первоначальном виде, и если не будут открыты новые источники, то едва ли такая задача окажется выполнимой.
Ограничиваясь сколько-нибудь правдоподобными данными, даже при самом осмотрительном выборе, нет возможности сказать, что именно принадлежит Пифагору и что его ближайшими учениками. По этой причине, здесь будет идти речь не о философии Пифагора, а вообще о древнейшем пифагореизме, который
необходимо отличать от позднейших новопифагорейских учений, и близко родственных с так называемыми новоплатонизмом. Только ради удобства, я буду употреблять иногда выражение: учение Пифагора, причем необходимо помнить, что под этим не подразумевается точное выделение личного элемента, принадлежащего основателю учения. Впрочем, это едва ли особенно важно, если вспомним, как велик был у пифагорейцев авторитета учителя. Очень возможно, что прибавки, сделанные его первыми учениками, были не особенно существенны, или, по крайней мере, не исказили первоначальный смысл учения.
Пифагореизм важен для нас в двух отношениях. Прежде всего, он представляете переход от наивного реализма ионийской натурфилософии к идеализму Платона, т. е. к наиболее идеалистической системе всей греческой философы; затем, учение Пифагора представляет первую попытку формулировать законы явлений на основаны чисто количественного принципа, в противоположность качественными определениям ионийской школы. Как уже было выяснено, из этой последней нельзя исключить и Анаксимандра: так, как и у этого философа основное начало -его «беспредельное», имеет не математический, а физический характер представляя неограниченное по размерам, самоподвижное и саморазвивающееся вещество. У пифагорейцев мы видим, наоборот, чисто математические, именно арифметические определения: в роли мирового начала фигурируете число. Резкость перехода от физики ионийцев к математике Пифагора, впрочем, смягчается теми взглядами, которые существовали у пифагорейцев относительно чисел. Значение пифагоровой «теории чисел» было предметом споров еще в древности. Позднейшие писатели упрекали, например, Аристотеля в том, что он не понял и исказил систему Пифагора. Некоторые новейшие историки, в свою очередь, пытались доказать, что учение о числах следует понимать в символическом смысле: другие доказывали, что у самого Аристотеля есть противоречивые показания на этот счет. На самом деле, смысл учения Пифагора о числах довольно ясен и едва ли отличается от того, который был ему придан Аристотелем.
- Информация о материале
- Просмотров: 1710
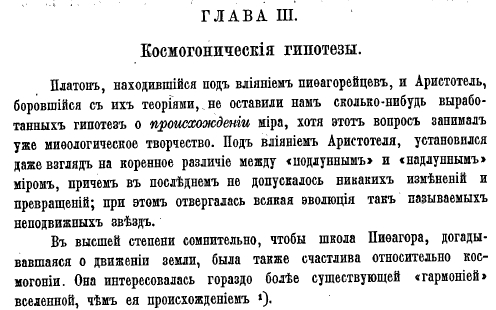
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
Том 2
Часть 3
ГЛАВА III.
Космогонические гипотезы.
Платон, находившийся под влиянием пифагорейцев, и Аристотель, боровшийся с их теориями, не оставили нам сколько-нибудь выработанных гипотез о происхождении мира, хотя этот вопрос занимал уже мифологическое творчество. Под влиянием Аристотеля, установился даже взгляд на коренное различие между «подлунным» и «надлунным» миром, причем в последнем не допускалось никаких изменений и превращений; при этом отвергалась всякая эволюция так называемых неподвижных звезд.
В высшей степени сомнительно, чтобы школа Пифагора, догадывавшаяся о движении земли, была также счастлива относительно космогонии. Она интересовалась гораздо более существующей «гармонией» вселенной, чем ее происхождением.
(Даже Фэй (Faye), при всем своем пристрастии к пифагорейцам, не мог найти у них ничего подобного теории происхождения мира, исключая того, что сказано в платоновском «Тимее». Замечу, что книга Faye, Sur l'origino du Monde (3 Edition, 1896), содержащая, между прочим, его собственную любопытную теорию, в исторической части далеко ненадежна. Faye уверяет, например, что Аристотель был плохо знакомь с учением Пифагора, с чем едва-ли согласятся' изучавшие доступную теперь греческую литературу. Вероятно, Фэю известны источники, недоступные другим исследователям пифагореизма; но какие именно, об этом Faye благоразумно умалчивает и безапелляционно утверждает, что ближайшие ученики Пифагора уже помещали в центре своей системы Солнце, что Гестия означала у них землю, а не центральный огонь и т. п. Все это расходится с мнением наиболее авторитетных историков, как, например, Целлера.)
Утрата сочинений Демокрита не позволяет судить о его космогонических теориях. Пользуясь разными отрывочными сведениями и, главным образом, поэмою Лукреция, возможно восстановить лишь общие черты учения Демокрита, но частью в переделанном и даже искаженном виде, приданном атомистическому учению Эпикуром —главным путеводителем Лукреция. Впрочем, некоторые данные позволяют указать, что именно было добавлено от себя Эпикуром, несмотря на то, что из всех (необычайно многочисленных) сочинений Эпикура сохранились лишь жалкие отрывки: крупнейшие найдены при раскопках, под развалинами Геркуланума. Хотя некоторые астрономические представления Демокрита были счастливыми догадками, подтвержденными позднейшей наукой (так, например, он признавал Млечный Путь скоплением звезд), в общем, атомисты стояли в области астрономии ниже не только Аристотеля, но и Платона и первых пифагорейцев. Было уже замечено, что Демокрит придавал земле фигуру вроде диска или же блюдца, и не мог отделаться от обыденных представлений о верхе и низе. Эти же представления о верхе и низе господствуют в атомистике Эпикура, несмотря на то, что он жил в IV веке (341—270; в 305 ч. основал школу в Афинах), когда учение о шарообразности земли стало общепризнанным.
Римский ученик Эпикура, Лукреций, хотя знает о шарообразности земли, придает, ошибочным воззрениям Демокрита характер полемики против учения о стремлении земных тел к центру земного шара. «Кто может представить себе, говорит Лукреций, чтобы под землею тяжелыt тела стремились кверху и держались там в направлении, противоположном нашему, как если бы мы созерцали наше собственное изображение на зеркальной поверхности вод»? Лукреций громить философов, осмеливающихся думать, «что на противоположной стороне земли есть животные, есть люди, расхаживающие и удерживаемые на почве воображаемым стремлением к центру земли». Все это, по его мнению, грубые ошибки, зависящие от того, что эти философы не понимают бесконечности вселенной. Так как вселенная бесконечна, она не имеет центра, а, стало быть, заключает Лукреций, и земля не может иметь центра, к которому стремились бы тяжелые тела. Что касается основного положения о бесконечности вселенной, Лукреций доказывает его весьма просто: он приводит доводы, показывающие немыслимость пределов пространства и воображает, что этим все доказано. Представим себе, говорит он, пределы вселенной: что препятствует нам вообразить себе стрелка, который, находясь у этих пределов, пускает отсюда стрелу в пространство, находящееся за этими пределами?
Бесконечность пространства этим, конечно, доказана: но требуется доказать, что за пределами материального мира есть еще материя, или, по крайней мере, надо убедить нас в том, что пространство тождественно с материей, как утверждал впоследствии Декарт. Но с точки зрения атомистики, допускавшей наряду с атомами пустоту, такие утверждения были бы противоречивыми, а поэтому приведенное Лукрецием доказательство ровно ничего не доказывает. Не более доказательны и его умозаключения даже в предположении бесконечности материального мира. Хотя такой мир очевидно не имеет абсолютного центра, но отдельные и даже весьма обширные части могут обладать центрами притяжения, и в частности, существование антиподов вполне совместимо с гипотезою бесконечного пространства, занимаемого материальным миром.
(Нельзя поэтому, согласиться с мнением Ланге (Lange, I, 139—140), что по космологическим вопросам древние атомисты ближе подошли к новейшей. науке, чем Аристотель. Несмотря на всю ошибочность геоцентрической теории Аристотеля, его учение о стремлении всех тяжелых тел к центру земли, как средоточию мира, во всяком случай ближе к учению о всемирном тяготении, нежели совершенно сбивчивое учение атомистов о падении атомов куда-то вниз. Я, уже говорил о том, что признаю учение Аристотеля о стремлениях различных «стихий» к центру земли и от центра не чисто метафизическим (телеологическим) воззрением (хотя в нем есть и метафизическая примесь), а ложной механической системой, основанной на наблюдении над падением и поднятием вверх различных тел).
Сохраненное Лукрецием учение Эпикура о бесконечности вселенной в связи с антропоморфическими понятиями о верхе и низе, привело, к чрезвычайной путанице по вопросу о движениях атомов. Бесконечность мира влекла за собою положение, что, в строгом смысле, мир не имеет ни верха, ни низа; но факт падения тяжелых тел «вниз», т. е. к центру земли, навязывался уму, и так как «стремление к центру» было отвергнуто и взамен не было предложено никакого механического объяснения, то атомистам на оставалось ничего, как только допустить, что атомы сами по себе обладают внутренним стремлением двигаться в том или ином направлении.
(Любопытно видеть, что Ланге, сознавая ахиллесову пяту древнего атомизма (I; 106), пытается смягчить краски и изобразить дело таким образом, как будто даже земное тяготение и учение об антиподах не могло установиться раньше Ньютона, тогда как ни пифагорейцы, ни Аристотель нимало не затруднялись допустить, существование антиподов. Сравн. замечания Ланге на стр. 17 его книги, где он говорит о некоторых механических воззрениях Аристотеля.)
Мы сейчас увидим, как пытался эпикуреизм выпутаться из этого затруднения. Специально по вопросу о падении атомов атомизм в лице Эпикура, несколько уклонился от мнений Демокрита. Демокрит заблуждался, воображая, будто большие массы скорее падают в пустоте, нежели малые, но распространение этого заблуждения на атомы спасало его систему, так как если допустить, как он и делал, что атомы обладают разными величинами и различными скоростями, причем более крупные движутся скорее, то уже нетрудно придумать столкновения между атомами. Более крупные атомы будут догонять более мелкие, произойдут взаимные удары, сталкивающиеся атомы начнут отскакивать друг от друга и в большей части случаев будут уклоняться от прежнего пути и приобретут, сверх того, вращательные движения; из таких сложных движений уже не трудно вывести не только построение солнца и планет, но и все, что угодно.
Учение Демокрита подверглось, однако, критике Аристотеля. Хотя до сих пор еще в некоторых учебниках физики говориться, что Аристотель будто бы учил о различной скорости падения тел в пустоте, но на самом деле он учил как раз обратному. По Аристотелю, пустоты вовсе нет; но если бы она была, тогда, по его словам, все тела должны были бы падать с одинаковою скоростью, прав поэтому Ланге, когда он утверждает, что априорный вывод Галилея (производившего опыты с падением тел в воздухе) относительно падения в пустоте навеян учением Аристотеля, в других случаях, так часто оспариваемым им.
Различие скоростей при падении Аристотель приписывал сопротивлению везде существующей и притом неоднородной среды. Чтобы обойти возражения перипатетиков, Эпикур изменил учение Демокрита в том смысле, что в пустоте нет сопротивления, а поэтому падение всех тел происходит с одинаковой скоростью. И хотя этот вывод совпадает с данными новейшей физики, но он оказывается роковым для атомистической космогонии.
Было уже замечено, что атомистам не оставалось ничего, как только признать присущее атомам внутреннее стремление к движению «вниз». И Эпикур, действительно, рассматривал тяжесть, как свойство, присущее самому атому и побуждающее его стремиться в определенном направлении. Допущение со стороны Эпикура этого внутреннего стремления к падению было лишь ясным признанием того, что у Демокрита осталось недостаточно выясненным.
(Ланге отрицает такое допущение со стороны Демокрита на стр. 18, формулируя взгляды этого философа якобы по Аристотелю: Die Atome haben -keine innern Zustande, sie wirken aufeinander nur durch Druck und Stoss. Формулировка эта принадлежишь, разумеется, самому Лапте. Но относительно Эпикура он вынужден признать обратное (S. 105). По Лукрецию, если бы мир был ограничен, то в течение веков, вся материя собралась бы в нижней части мира. Поэтому Ланге справедливо замечает: «Эпикур признает тяжесть, наряду с сопротивлением существенным свойством атомов … и допускает определенное направление для падения всех атомов вселенной»).
Но такая система представляла огромные трудности, которых не сознавал Эпикур.
Послушаем Лукреция, когда он, вооружаясь атомистической гипотезой Эпикура, пытается построить из атомов вселенную.
Каким образом, спрашивает Лукреций, случайные столкновения атомов, падающих сверху вниз, но с нечувствительными уклонениями, без которых природа ничего не могла бы произвести, положили начало небу, земле, океанам, направили движение солнца и луны?
Весь вопрос в том, откуда явились эти «нечувствительные уклонения» при движении атомов в пустоте, не оказывающей им никакого сопротивления? Уклонения эти пришлось придумать, так как они были заменою предположения Демокрита о разной скорости движения атомов. Если все атомы движутся с одинаковою скоростью и в одном и том же направлении, то совершенно непонятно, каким образом их взаимные положения могут изменяться. Как столкновение, так и разделение атомов становится невозможным. Понятно, почему Лукреций вынужден был признать, что без уклонений (неизвестно почему происходящих) природа не могла бы ничего произвести из таких атомов.
Будучи лишь истолкователем греческих философов, Лукреций не задумался над вопросом об «уклонениях» и попросту соединил взгляды Эпикура с более последовательной, хотя не менее ошибочной космогонией Демокрита. Лукреций прямо заимствовал его своеобразную теорию вихревых движений, которою не следует смешивать с вихрями Декарта. Лукреций сознает трудность, однако, считает теорию Демокрита «довольно правдоподобной» и она, действительно, правдоподобнее, нежели предположения Эпикура, который не отличался математическими познаниями, а потому попросту предположил, что солнце движется по кругу вследствие однажды полученного им толчка. Демокрит вывел видимые движения светил из вихревых движений, явившихся от столкновений атомов, обладавших разными скоростями. Эти движения, по мнению Демокрита, и теперь поддерживают круговые движения. По словам Лукреция, чем ближе светила к земле, тем менее их увлекаете небесный вихрь, потому что скорости убывают по направлению вниз. Этим объясняется, почему солнце, находящееся «гораздо ниже» звезд, а тем более луна, находящаяся еще ниже, движутся, отставая от звезд. При этом Демокрит отличал видимое движение от того, которое он считал истинным, он доказывал именно, что на «самом деле знаки зодиака догоняют солнце и еще скорее догоняют луну; нам же кажется, что солнце и еще скорее луна возвращается к тому или иному созвездию, находящемуся подле эклиптики». Это различение между видимым и истинным движением, однако, не сблизило атомистов с более правильными воззрениями пифагорейцев.
Хотя, таким образом Лукрецию (а быть может и самому Эпикуру) удалось, с помощью демокритовских вихрей, выпутаться из затруднения, но вся система атомизма оказывается искусственною. Главный вопрос, каким образом атомы, движущиеся в пустоте с одинаковыми скоростями и в одном направлении, могут сближаться между собою или удаляться друг от друга, остается невыясненным. Причина уклонения (у Лукреция clinamen) настолько не ясна, что в конце концов Лукреций (следуя, вероятно, Эпикуру) вынужден обратиться к аналогии с произвольным движением.
Таким образом бессознательно вводится новый элемент, и вся стройность механического миросозерцания внезапно нарушается. Оказывается, что, как механическая система, атомизм, — в том виде, какой ему был придан Эпикуром, — не представляет никаких преимуществ над механическими умозрениями Аристотеля. Если у Аристотеля можно видеть некоторый антропоморфизм в понятии о центростремительном и центробежном стремлении элементов, то в атомистике Эпикура, по крайней мере в том виде, как она передана Лукрецием , мы видим вмешательство в чисто механический процесс элемента произвольности; эта произвольность производить уклонения от механически предписанного направления, а без таких уклонений атомы пребывали бы в состоянии относительного покоя, т. е. их взаимные расстояния оставались бы неизменными, что равносильно с полной неизменяемостью материального мира.
Следует, однако, заметить, что в системы Эпикура этот почти психический элемент имеет чисто паразитный характер, зависящий, главным образом, от слабой математической подготовки самого Эпикура и его ближайших учеников. Некоторые примеры, приводимые Лукрецием, позволяют думать, что Эпикур смутно представлял себе атомы наделенными чем-то вроде запаса энергии, могущей обнаруживаться от сравнительно ничтожных возбудителей. В эпоху Лукреция не знали свойств взрывчатых веществ, а поэтому ему, как и Эпикуру, пришлось прибегнуть к аналогии с живыми существами, например, с лошадью, долго сдерживаемою, а потом внезапно пущенною и мчащеюся как стрела.
Атомисты смутно догадывались, что и в этом случае речь идет о некотором механическом принципе, а поэтому и не видели противоречия допущенной ими причины «уклонений» с прямо выраженным ими учением, по которому никакое сознание не должно было играть роли в процессе распределения атомов. Но во всяком случае остается справедливым, что и учение о падении, атомов куда-то вниз, и дополнение его неизвестно чем причиняемыми отклонениями дает механическую картину, не обладающую какими бы то, ни было преимуществами над. учением Аристотеля о центробежном и центростремительном стремлении элементов.
Предыдущие разъяснения не должны быть ложно истолкованы в смысле отрицания великой исторической заслуги атомизма. Заслугу эту, однако, следует видеть никак не в установлении здравых начал механики и физики и не в крайне искусственной космогонии атомистов. Преимущества атомизма заключаются в ином, а именно в его полемическом отношении к фальшивой телеологии и к теологическому мистицизму. Это единственные, но зато весьма существенные пункты, по которым эпикуреизм расходится с большинством направлений, сложившихся в Греции в эпоху её упадка. В этом случае ученик Эпикура, Лукреций, не только выражает взгляды учителя, но частью идет даже дальше его, и это не удивительно, так как Эпикур имел дело с умирающей эллинской теологией, тогда как Лукрецию приходилось еще бороться с живыми, порою весьма нелепыми суевериями римской толпы. Да и вообще у римлянина, жившего в начале I века до P. X. (99— 55), следует ожидать больше бодрости и мужества, чем у спокойного, более склонного к созерцанию, чем к борьбе, греческого философа, который укрылся в своем саду, не желая видеть окружавших его развалин греческой культуры. Теоретические соображения Лукреция целиком заимствованы у греков, Эпикура и Демокрита. Несмотря на беспричинные «уклонения» атомов, он, однако, пытается отвергнуть психическое начало. Начала вещей (т. е. атомы), говорит он, расположились в порядке не по остроумному соображению (Lucr. De nat. rer.I. 1021-1034: Nam certe neque consillo premoredia rerum Ordine se sua qusequse sagaci mente locarum etc.) и не потому, чтобы было установлено, какие движения должны произойти, но по той причине, что при множестве различных столкновений получились различные устойчивые расположения.
Как ни заманчива эта мысль, но попытка механической конструкции оказывается очень слабой уже потому, что эпикурейцы признавали скорость движения атомов в пустоте бесконечно великой. Из того, что более плотная среда, например, вода, оказывает большее сопротивление некоторым движениям (хотя бы, движению нашей руки), чем менее плотная, например, воздух, Эпикур вывел, что в пустоте, при отсутствии всякого сопротивления, скорость атомов должна далеко превышать «скорость солнечных лучей», о которой в его время можно было строить лишь приблизительные догадки (Lucret.II, 150-164). Мы видим, таким образом, картину атомов, движущихся в пустоте с бесконечными скоростями, по параллельным прямым и получающим, однако, некоторые отклонения, позволяющие сталкиваться между собою. Более неопределенный механический образ трудно себе представить.
Важна, поэтому, не столько механическая конструкция вселенной из атомов, оказавшаяся у Эпикура крайне неудачною, сколько чисто методологическая попытка применить механические объяснения ко всей природе, не исключая жизненных и душевных явлений. Рассмотрение этой стороны атомизма не относится к общим вопросам космологии.
(Сравните далее главы о биологической эволюции. Что касается морального возмущения против Лукреция, его можно встретить не только у теологов (что весьма понятно), но даже у новейших ученых. Достаточно прочесть у Faye, что выводы из учения Лукреция будто бы deprimantes au point de vue moral. Мы, однако предпочитаем мужественную речь Лукреция рассуждениям Цицерона и даже лицемерной нравственной проповеди Сенеки. Faye вынужден признать, что учение Лукреция было внушено не эгоизмом, «а борьбой против религии, ставшей невыносимою»)
- Информация о материале
- Просмотров: 1818
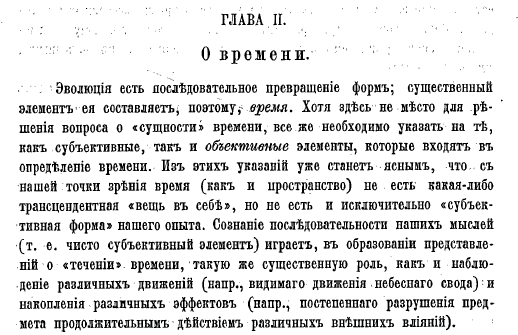
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
Том 2
Часть 3
ГЛАВА II.
О времени.
Эволюция есть последовательное превращение форм; существенный элемент ее составляет, поэтому, время. Хотя здесь не место для решения вопроса о «сущности» времени, все же необходимо указать на те, как субъективные, так и объективные элементы, которые входят в определение времени. Из этих указаний уже станет ясным, что с нашей точки зрения время (как и пространство), не есть какая-либо трансцендентная «вещь в себе», но не есть и исключительно «субъективная форма» нашего опыта. Сознание последовательности наших мыслей (т. е. чисто субъективный элемент) играет, в образовании представлений о «течении» времени, такую же существенную роль, как и наблюдение различных движений (например, видимого движения небесного свода) и накопления различных эффектов (например, постепенного разрушения предмета продолжительным действием различных внешних влияний).
Время есть независимая переменная величина, к которой относится всякий опыт, как внешний, так и внутренний; но только потому, что эта величина, путем абстракции, извлечена из всей совокупности нашего опыта, относится ли она к нашим чувствам, стремлениям и мыслям, или же к явлениям внешнего мира.
Следующий пример покажет долю участия как субъективных, так и объективных элементов нашей познавательной деятельности в образовании понятий о времени.
У некоторых древних философов можно уже найти намеки на мысль, что свет распространяется не мгновенно. Вполне ясно была выражена та же мысль Франциском Бэконом и Галилеем. Последний пытался даже определить скорость распространения света; но так как он пользовался лишь незначительными земными расстояниями и грубыми методами наблюдения, то потерпел неудачу. Лишь в конце XVII века (1675 г.) датский астроном Олаф Раме, наблюдая затмения одного из спутников Юпитера, вывел из замедления этих затмений приблизительно точную величину, скорости света, исправленную позднейшими, более точными измерениями и принимаемую теперь, круглым числом, в 300,000 километров в секунду.
Так как астрономам удалось определить расстояния некоторых ближайших звезд от земли, то мы знаем, например, что от самой яркой звезды небесного свода, именно Сириуса, свет достигает нас в течение 83/4 лет. Сравнивая блеск некоторых телескопических звезд с блеском Сириуса и допуская, что есть отдаленный звезды, приблизительно таких же размеров, как Сириус, мы убеждаемся в том, что несомненно существуют светила, в тысячу раз более удаленные от нас, чем Сириус, хотя мы и не в состоянии измерить их параллакс. От подобной звезды свет достигаете, нас лишь в течение 8750 лет. С некоторой степенью вероятности можно допустить, что существуют светила и в миллион раз более отдаленный, чем Сириус, а если бы даже таких светил не было, то ничто не мешает нам рассмотреть вопрос с чисто абстрактной точки зрения и вообразить себе фиктивное светило с находящимся на нем наблюдателем.
Наблюдатель, находящийся на Сириусе, если бы он обладал необычайно мощными телескопами и был способен различать в них даже людей и их деятельность на земном шаре, увидел бы в настоящее время совсем не то, что с нашей точки зрения является настоящим. Он наблюдал бы теперь события, происходившие в 1889 г., например, последнюю парижскую выставку. Наблюдатель, поместившийся на расстоянии в тысячу раз большем, видел бы теперь события, происшедшие, с нашей точки зрения, 8750 лет тому назад, стало быть, созерцал бы сооружение каких-нибудь египетских пирамид. Наконец, наблюдатель, поместившийся на небесных телах, удаленных в миллион или несколько миллионов раз более Сириуса, увидел бы еще более изумительные вещи: он теперь наблюдал бы каких -нибудь ихтиозавров, — не погребенными под геологическими пластами, а плавающими в первобытных океанах.
Мы до того привыкли к мысли, что все настоящее для нас, т. е., с нашей субъективной точки зрения, имеет значение настоящего, присущего самому объекту и, стало быть, обязательного для всех вообще мыслящих и существ,- что соображения, вроде приведенных выше, на первый взгляд представляются чудовищным парадоксом, и мы отказываемся верить, чтобы давно истлевшие и погребенные ископаемые организмы могли с чьей бы то ни было точки зрения представлять объект непосредственного опыта. Конечно, приведенная космическая фантазия не более, как фикция, однако, это не праздная химера, а простая гиперболизация обыденнейших фактов, не изумляющих нас только потому, что мы их не замечаем или недостаточно в них вдумываемся. Убедиться в этом не трудно, избрав вместо зрительных ощущений слуховые, вместо света - звук и вместо чудовищных звездных расстояний- ничтожные земные расстояния.
Предположим, у нас есть два наблюдателя А и В, снабженные часами, точно между собою сличенными. Пусть наблюдатель удалится от А на расстояние 1085 футов, т. е. как раз такое, которое, по опытам Ренье, проходится звуком в воздухе при 0 градусов в течение секунды. А стреляет из пистолета и замечает момент выстрела, скажем 8 ч. 10 м. 5 секунд пополудни. Вы слышите этот выстрел секундою позднее, т. е. в 8 ч. 10 м. 6 сек. В этот момент для В выстрел составляет настоящее; это одно из теперь создаваемых Д ощущений, причиняемых явлениями объективного мира. Но для А, в тот же момент, т. е. в 8 ч. 10 м. 6 с., выстрел составляет уже прошедшее, оставляющее лишь след в его органе слуха, а позднее лишь в его памяти. Очевидно, что ни то, ни другое представление о настоящем не может быть отнесено к самому объекту, независимо от положения наблюдателя. Следует ли из этого, что представление о последовательности и одновременности событий не включает в себе никаких объективных элементов? Нисколько. Среда, отделяющая наблюдателя от источника звука, есть уже объективный элемент, и чтобы убедиться в этом полнее, достаточно привести следующий пример.
Пусть два наблюдателя удалены между собою на 108500 футов, т. е. с небольшим на 30 верст, и пусть один из них производите взрывы, слышимые также наблюдателем А. Звук, проходит это расстояние в 100 секунд — промежуток времени весьма ощутительный. Свет пройдет это расстояние немногим более, чем в десятитысячную долю секунды — промежуток времени, совершенно не поддающийся измерению и определяемый лишь вычислением. Если А в состоянии наблюдать в подзорную трубу производимые взрывом световые эффекты, то эти световые явления будут для него и для В почти одновременными, - тогда; как для звуковых ощущений получится разность времени 1 и 2/3 минуты, т. е. прошедшее для В будет настоящим - для А. Если бы пространство между землею и солнцем было заполнено атмосферою такой плотности и состава, как наши нижние слои воздуха, то свет солнца достигал бы нас несколько медленнее, чем теперь, но, во всяком случае, это время измерялось бы минутами, тогда как звук от чудовищного взрыва на солнце достиг бы нас в десятки лет, так как скорость его равна лишь трети километра в секунду. Или, если поместить на солнце трех наблюдателей — глухого, слепого и нормального, то первый из них наблюдал бы происходившее на земле несколько минут тому назад, второй происходившее за десятки лет, а для третьего зрительные впечатления совсем отделились бы от слуховых, опередив их на многие годы, подобно тому, как во время грозы молния опережаете гром на несколько секунд. Стоите изменить среду и время распространения звука изменится. Все это до очевидности показывает значение объективных условий в определении времени. Время нельзя считать такою субъективною формою, в которую все явления внешнего мира влагаются, как пассивный материал. Одновременность и разновременность обусловлена не одними свойствами наблюдателей, но и характером внешних явлений, т. е. типом происходящего движения и свойствами среды, в которой распространяется это движение.
(Конечно, и движение, и свойства среды, в конце концов, познаются нами «от наших ощущений. Но это служит возражением лишь против трансцендентного реализма, допускающего существование «вещей», будто бы познаваемых помимо всякого опыта. Возражение — это бессильно по отношению к тому критическому реализму, для которого объект есть источник опыта, если не действительного, то по крайней мере возможного. Во избежание недоразумений, замечу следующее. Под возможностью не подразумевается простая мыслимость, мыслить можно даже заведомо невозможное, например, центавра или химеру. Возможность есть наличность некоторых из условий, требуемых для осуществления опыта. Возможность превращается в действительность, если все дополнительные условия осуществляются. Так, движение по окружности круга возможно для материальной точки, вынужденной в силу данных условий оставаться в данной плоскости. Для того, чтобы круговое движение осуществилось, требуются новые условия, помимо того, уже которым установлено плоское движение.)
Все наши представления, в том числе и представление о последовательности и о совместности явлений, вытекают из отношений между субъектом и объектом. Если А, стоя подле колокольни, слышите звон колокола в 8 ч. 10 м. 29 сек. вечера, а В, находясь за 1085 ф. от колокольни, отмечает аналогичное восприятие звука в 8 ч.10 м.30 сек. по точно согласованному хронометру, то спрашивается, какое из этих определений времени присуще объекту, независимо от положения наблюдателей. Можно ли сказать, в какой момент звук раздался «сам по себе», хотя бы мы, рассматривали его только- как вибрацию воздуха, возбужденную дрожанием колокола, т.е. как движение. Ведь и наблюдатель А, находясь подле колокола, все же удален от него, скажем, на 10 футов; для прохождения этого расстояния звук требует хотя малого, но все же не бесконечно малого и, во всяком случае, не нулевого времени.10 ф звук проходит приблизительно в сотую долю секунды. Для определения начального момента звука, независимо от положения наблюдателя, нам пришлось бы разве предположить, что сам звучащий колокол пространственно совпадаешь с воспринимающим его субъектом, т. е., что колокол ощущает-и-сознает свой собственный звон — гипотеза, которую следует, предоставить новейшим сторонникам учения, именуемого панпсихизмом, или теорией всеобщей одушевленности. Если даже мы вообразим, что движете воздуха и колебание частиц колокола — это настоящая реальность, свободная от всяких субъективных элементов, то все же мы можем познать ее не иначе, как помощью чувств и опыта, например, прикрепив к звучащему телу штифт, который, будет чертить на какой-либо закопченной поверхности его колебания, исследуя действие звуковых волн с помощью каких -либо перепонок и т. п. При этом мы так мало освобождаемся от субъективного элемента, что попросту переводим одни ощущения (слуховые)на язык других ощущений (зрительных), к чему и сводится утверждение, что звук (воспринимаемый слухом) есть род движения (воспринимаемого зрением). С другой стороны, не менее ясно, что с одним «субъектом». без объективных условий нельзя создать ни одного представления. Малейшее изменение температуры воздуха повлияет на скорость звука, а, стало быть, изменит время его распространения от звучащего тела к наблюдателю. Все физические условия непрерывно изменяются, хотя бы в малой степени. Все наши наблюдения приблизительны: уже по ограниченности наших чувств, мы совсем не замечаем очень малых изменений. Но уничтожив мысленно весь объективный мир, мы не получим чистого созерцания времени, так как при этом уничтожим все вообще изменения, а вместе с ними упраздним и самое мышление.
Теперь мы можем с спокойной совестью оставить в стороне гносеологию. Обратимся к вопросам космологического характера, не рискуя попасть в какие-либо метафизические дебри. Время не есть некоторое метафизическое чудовище, вроде Хроноса, пожиравшего своих детей, но если бы оно было только формою субъекта, то течение времени не могло бы определять собою накопления эффектов в объективном мире. Было бы непонятным, почему чисто субъективная форма оказывается переменною независимою, к которой относятся все явления объективного мира. Время «само по себе» ничего не производит, но в событиях внешнего мира оно отмечает количество накопившихся эффектов, а, стало быть, определяет величину всякого изменения.
(Man saga uns, dass die Zeit eine Denkform sei, wesenlos und untheilbar. Der Mensch gewahrt den Ablauf des Lebens urn sich und misst unwillkiirlich der Zeit eine Entwickelung und damit Wesenheit bei. Er bemerkt die unveranderliche Wiederkehr gewisser Ereignisse und sehliesst daraus, dass die Zeit sich theilen laest, er vergleicbt die Absehnitte mit den Vorgangen, die sich in sie einfiigten und schreibt einer bestimmten Zeit eine bestimmte Kraft zu. Das sind Trugschltisse (е). Die Zeit bewirkt nichts, aber jo Engere Zeit einer Kraft gegOnnt ist, sich zu aussern, desto hoher summirt sich auch die von ihr geleistete Arbeit». (Koken, Die Vorwelt etc. 1893, Der Zeitbegrilf in der Geologie). Автор не замечает, что его последний вывод вовсе не находится в роковом противоречии с некоторыми из перечисляемых им «софизмов», т. е. с субъективным характером времени. Весь секрет в том, что субъект и объект понятия соотносительные: каждое из них бессмысленно, если упразднить другое. Что касается «неделимости» времени, мы, вместе с Кокеном, охотно подарим ее метафизикам, и будем, по-прежнему, измерять время годами, часами, секундами и т. д., т. е. делить его на части.)
- Информация о материале
- Просмотров: 2042