В этом разделе публикуются тексты "Философии Действительности" в современной орфографии. Возможно удастся собрать их в одну бумажную книгу. Попытка сбора средств на издание не удалась.
Сканированные оригиналы в pdf:
Избранные главы "Философии Действительности", список материалов на этом сайте:
***
Невероятна биография доктора натуральной философии Филиппова Михаила Михайловича, издателя журнала "Научное Обозрение", впервые опубликовавшего работу К.Э. Циолковского о покорении космического пространства, переводчика трудов К. Маркса и Ч. Дарвина на русский и Д. Менделеева на французский. Автора более 300 научных работ.
Оказалось, что Филиппов М.М. является автором двухтомного труда "Философия Действительности", издававшегося дважды в 19 веке, но больше никогда не переиздавашегося.
Михаил Михайлович Филиппов погиб (умер) в 1903 году при постановке опыта по передаче энергии взрыва на расстояние, его история легла в основу романа А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" и множества версий о таинственных "лучах смерти".
О деятельности ученого подробно рассказывается в энциклопедиях, в сети можно найти сканы его работ с биографиями ученых и мыслителей древности, роман о Севастопольской битве был высоко оценен Л.Толстым и переиздавался совсем недавно. Но его философское наследие, в отличие от популяризаторского таланта и социальной борьбы (он был социалистом, марксистом и изобретал оружие в уверенности, что оно поможет остановить кровопролитные войны) становится достоянием только сейчас (например см. Коробкова С.Н. "СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ М. М. ФИЛИППОВА" и другие ее работы).
Позиция Филиппова по отношению к марксизму и его последователям в России не устраивала захвативших власть революционеров, даже в воспоминаниях его сына, вышедших в 1960-х годах, на пике интереса к науке, рассказывается больше не о Филиппове, а о его борьбе с царской цензурой и о том, что в редактируемом им журнале "Научное обозрение", печатался В.И.Ленин и другие марксисты.
В 1895 году Филиппов М.М. закончил и издал двухтомный труд "Философия Действительности", который по своей идейной направленности не потерял актуальности и сейчас, когда во всем мире, и в России, происходят процессы обскурантизма, обратные Просвещению, которое вдохновляло интеллигенцию русскую и в 19 и в 20 веке.
По другому нельзя назвать процессы, идущие в российском образовании и шире - в культуре и обществе. Прошло более ста лет с момента выхода книги, но те идеалы, о которых пишет автор, так и остались идеалами, наука и научный метод развиваются, но метафизическое миросозерцание не отмирает, как виделось в конце 19 века, а наоборот, пытается "срастись" с наукой, "пристроиться".
Диалектический и исторический материализм - непререкаемые догмы советской философии - не принимали не только позицию доктора натуральной философии М.М Филиппова, но и материализм академика В.В.Вернадского являлся "еретическим", не вписывались в Программу построения Нового Мира, вместе с кибернетикой, генетикой и прочими "буржуазными отклонениями" от Генеральной Линии Партии.
Возрождение религиозности, устранение науки из общественной жизни и ее замена на "духовность" меняют вектор развития всего российского общества. Тем ценнее сегодня "Философия Действительности", где наука ставится автором в основу философии и общественной жизни. В предисловии автор пишет:
"История сама по себе едва ли представляет интерес, если из нее не извлекаются выводы, имеющие значение для настоящего и будущего; важнейшим же результатом моего труда я считаю тот вывод, что все вообще философские системы, пытающиеся отделить себя от науки, окончательно отжили свой век. Как бы ни были велики их заслугив прошедшем, для настоящего времени метафизические учения являются лишь тормозом, задерживающим развитие мысли, и поэтому должны быть признаны орудием регресса."
В 2016 году в Российской Государственной Библиотеке, Исторической Библиотеке (в Москве) и Российской Национальной Библиотеке (в Петербурге) удалось найти и отсканировать оба тома "Философии Действительности" и последний, мая 1903 года, предсмертный номер журнала "Научное Обозрение", где М.М. Филиппов начал публикацию философских размышлений о творчестве личности.
Беседа о М.М.Филиппове, история, наследие, восприятие - 06.04.24
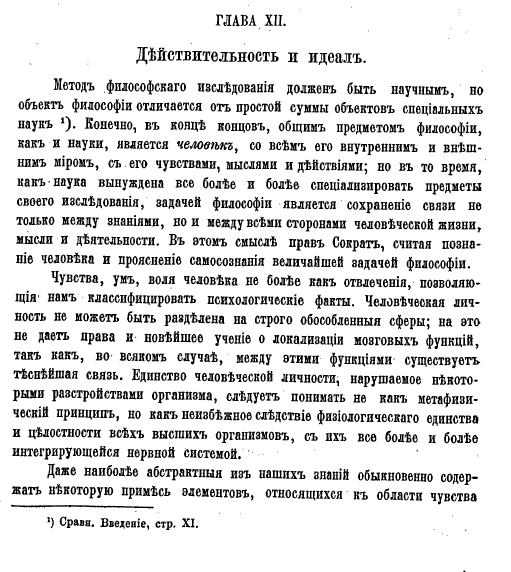
Метод философского иcследования должен быть научным, но объект философии отличается от простой суммы объектов специальных наук. Конечно, в конце концов общим предметом философии, как и науки, является человек, со всем его внутренним и внешним миром, с его чувствами, мыслями и действиями; но в то время, как наука вынуждена все более и более специализировать предметы своего исследования, задачей философии является сохранение связи не только между знаниями, ной между всеми сторонами человеческой жизни, мысли и деятельности. В этом смысле прав Сократа, считая познание человека и прояснение самосознания величайшей задачей философии.
Чувства, ум, воля человека не более как отвлечения, позволяющие нам классифицировать психологические факты. Человеческая личность не может быть разделена на строго обособленные сферы; на это не дает права и новейшее учение о локализации мозговых функций, так как, во всяком случае, между этими функциями существует теснейшая связь. Единство человеческой личности, нарушаемое некоторыми расстройствами организма, следует понимать не как метафизический принцип, но как неизбежное следствие физиологического единства и целостности всех высших организмов, с их все более и более интегрирующейся нервной системой.
Даже наиболее абстрактные из наших знаний обыкновенно содержат некоторую примесь элементов, относящихся к области чувства и воли. Математическая формула, а тем более геометрическое построение уже может включать элемент изящества или, наоборот, неуклюжести; практический элемент, побуждение к действию, т. е. к приложению, свойственно всем вообще научным знаниям.
В особенности же ярко выступаете элемент чувства и воли в науках, имеющих прямое отношение к личной и общественной жизни человека. «Равнодушно внимать добру и злу» могут лишь немногие аскеты, презирающие видимый мир ради невидимого, да еще сухие доктринеры, для которых добро и зло являются только предметом изучения.
В этом отношении философия не отличается от науки. Усвоив научный метод, она не нуждается в дополнении его каким-либо другим субъективным методом. Совершенно достаточно, чтобы философ, как и ученый, был не только философом или ученым, но прежде всего человеком. А если это требование исполнено, то, конечно, он не станете любить или негодовать по методу. Не требуется никаких методических приемов для того, чтобы почувствовать негодование, читая факты, сообщаемые Энгельсом в его книге «Положение рабочих классов в Англии» или вдумываясь в показания, собранные английскими фабричными инспекторами и вкратце изложенные Марксом в первом томе его «Капитала». В книге Чарльза Бутса (Booth), вождя «армии спасения», между прочим, указан тот факт, что из жителей Лондона более 30% находятся в состоянии «хронической нищеты», а в некоторых беднейших частях города процент нищих повышается вдвое по сравнению с средней нормой.
Вот факт, установленный объективной наукой - статистикой; но узнав его, можно, не будучи утопистом, повторить слова Генри Джорджа, что огнеземельцы, австралийцы и эскимосы счастливее бедняков Великобритании. Не удивительно, что сознание такого положения современных обществ порождаете фантастические планы пересоздания их в один день или час, а людей более трезвых приводите порою к мрачному разочарованию: от такого уныния не остался свободным даже такой положительный ум, каков Гексли. Он говорить: «Я не претендую на звание филантропа и чувствую особое отвращение ко всякого рода сентиментальной риторике; как натуралист, я стараюсь иметь дело лишь с фактами, находящимися в моем распоряжении, и принимаю за несомненный факт, что во всей промышленной Европе не найдется ни одного фабричного города, где бы значительное число людей не жило на самом краю социального болота.
Huxley, Social Diseases and Worse Remedies, 189И, стр. 32 - 33.
Сознание зла вызывает стремление к его устранению. Однако, недостаточно чувствовать зло для того, чтобы понимать его настоящую причину. Философы XVIII века ссылались обыкновенно на порчу человеческой природы плохими учреждениями; они ожидали всего от внешних политических реформ и от реформы воспитания. В XIX веке было понято значение более глубоких социальных причин; но полное раскрытие этих причин дается не легко; и на первый раз исследование экономического фактора приводило лишь к социальным утопиям.
В 1882 году Сен-Симон в своих женевских письмах выставил принцип: «все люди должны работать». Этот принцип был, в сущности, лишь отражением движения народных масс в эпоху террора. Тем не менее, человек, понявший в 1802 году, что «великая революция» была победою буржуазии, - несмотря на всю свою склонность к мистицизму, был не заурядным социологом. В 1816 году тот же Сен-Симон почти предвосхитил мысль Маркса: он утверждал, что политика должна основываться на правильно понятых экономических интересах. На этом основании он проповедывал союз трех передовых промышленных государств. Когда Сен-Симон выставил в своей Parabole politique (политической притче) смелую для того времени гипотезу, по которой рабочий класс, включая работников мысли, составляет все, - он угадал, к чему, в конце концов, приведет развитие индустриализма. Мысль подчинить, «легистов» (чиновников, адвокатов) и «военных» рабочим классам, высказанная в Catchisme des Industriels (1822), является пророческою, хотя и утопическою для своей эпохи.
Если принять во внимание, что в Англии в 20-х годах уже начиналось брожение, приведшее в 1837 году к основанию Working men's Association (Ассоциации рабочих), и к могущественному чартистскому движению, то окажется, что Сен-Симон, при всей своей: гениальности, немногим успел опередить сознание, возникшее в рабочих массах наиболее промышленной из европейских стран.
Таким образом, социализм, поскольку он является научным, представляет лишь угадывание стремлений, уже существующих в обществе или близких к возникновению. Это становится еще более ясным при сопоставлении утопий известного английского мыслителя Роберта, Оуэна с рабочим движением.
Начало деятельности Оуэна немногим отличалось от той энергичной филантропии, какую можно встретить почти только у англичан и которая побудила, например, Говарда добровольно сесть в тюрьму, чтобы изучить и облегчить быть арестантов. Оуэн был фабрикантом и начал с устройства образцовой фабрики; филантропия не помешала доходу: Нью-Ланарская фабрика, где работали по 14 часов в сутки (это- далеко от требуемого теперь рабочими 8 часового рабочего дня), давала отличный доход и уцелела во время хлопчатобумажного кризиса, хотя в течение 4 месяцев пришлось платить рабочим полное жалованье. Правда, Оуэн не удовольствовался такою фабрикой; перенеся свою деятельность в Америку, он устроил в Гармони Гилль колонию на коммунистических началах, конечно, не имевшую успеха. Успех Нью-Ланарка, куда были поселены подонки английского рабочего класса, и неудача американской колонии лучше всего доказывают необходимость считаться с господствующим экономическим строем. Оуэн был, однако, при всех своих утопиях, практик: никто иной, как он, был инициатором закона, впервые ограничившего работу женщин и детей; он же был председателем первого конгресса английских рабочих союзов, приведшего к соединению их в один могущественный союз.
Утопический социализм смутно сознавал значение капиталистического строя, как стадии эволюции, предшествующей более совершенным экономическим формам; но полное выяснение значения капитализма принадлежит научной критике. Прогрессивное историческое значение капитализма, как показал Маркс, приводится, главным образом, к превращению натуральных хозяйств в денежные, и, по терминологии Маркса, к «обобществлению труда». Техническая основа капитализма - крупная машинная промышленность - несомненно прогрессивна. Никакие сетования об упадке кустарных промыслов не устраняют факта технического превосходства фабричной, промышленности над мануфактурной. В фабричном производстве крайности разделения труда вытекают не из технических условий; тогда как в кустарной и мануфактурной промышленности крайнее разделение труда есть неизбежное условие успеха. Ссылаясь на Адама Смита, часто забывают о том, что он жил до наступления периода крупной фабричной промышленности, связанного с успехами конструкции паровых, а позднее и электромагнитных машин. По мере усовершенствования машин, мы приближаемся к эпохе, когда целой машиной будут управлять немногие рабочие, получившие техническое образование, и стало быть вовсе не играющие роль «придатков машины», но вполне заслуживавшие названия «мастеров».
Каковы бы ни были, поэтому, мрачные стороны нынешней фабричной промышленности, её прогрессивная техника неминуемо одержит верх над всякими кустарными производствами. В то же время в ней есть задатки для восстановления целостности рабочего, нарушенной, по преимуществу, мелкими мануфактурными производствами.
3АКЛЮЧЕНИE.
В виде заключения поставим вопрос: что же является существенным двигателем человечества? Идеи, говорить Конт; чувства и характеры утверждает Спенсер; религия, дающая победу в борьбе за существование, говорит Кидд; «психические факторы» - по мнению Лестера Уорда. Нам известно также мнение идеалиста Шиллера, сходящееся с мнением материалистов - Маркса и Энгельса. Голод и любовь - двигатели человечества, указанные Шиллером. Воспроизведение потомства и производство материальных благ, вторят основатели социального материализма.
Все эти мнения страдают односторонностью, но последнее из них ближе всех к истине, так как оно указываете на самые глубокие и могущественные факторы личной и общественной деятельности. Эти факторы существенно определяют и психическое содержание людей. Чувства, идеи, верования, вообще вся психическая деятельность личностей лишь в абстракции может быть отделена от «голода и любви», от «воспроизведения потомства» и «производства продуктов». По методологическим причинам, можно, поэтому, (для обществ, достигших известной стадии развития) рассматривать экономический фактор социальной эволюции как вполне независимый элемент, определяющий все другие. Экономическая стадии развития, включая технические способы производства, всего ярче характеризуют, сколько-нибудь культурные общественные типы. Однако, техника зависит, от знания; и хотя это последнее главным образом определяется данным социальным состоянием, но частью унаследовано от прежние эпох – и в этом смысле независимо. Далее, требования промышленности часто вызывают изобретения и дают применение научным открытиям; но важнейшие изобретения являются плодом чисто теоретической мысли, причем наука, вовсе не имея этого в виду, производить переворот в технике. Когда А. В. Гофман в своей маленькой лаборатории исследовал в 1858 году свойства анилина, он продолжал работы, клонившиеся к развитию теории типов; ему и на ум не приходило, что он произведет настоящую революцию в красильном деле и создаст важную отрасль промышленности. Но и чувства, и верования точно также воздействуют на экономические условия, хотя сами слагаются под их давлением. Так, испанский религиозный фанатизм, погубивший мавританскую культуру, был немыслим без целого ряда экономических факторов. Фанатизм, в свою очередь, содействовал превращению Испании в экономически отсталую страну, которая, вследствие этого, должна была вскоре утратить свое мишурное политическое могущество. Итак, существует «взаимодействие независимых факторов»; и самые «надстройки» над экономическим фундаментом могут порою раздавить фундамент: лишь этим объясняются экономические перевороты и возможность сокращения стадий эволюции.
Грубейшим заблуждением является, однако, мнение, что учение, признающее экономическую эволюцию основою всего общественного развития, - или, вмести с нами, усматривающее в ней главный социальный элемент, - влечет за собою проповедь политического, умственного и нравственного индифферентизма. Как раз наоборот. Именно это учение требует устранения всяких правовых, умственных и нравственных оков, препятствующих нормальному ходу социальной эволюции.
Конечная цель этого учения - развитие общественного самосознания и достижение истинной свободы. Понять закон развития вовсе не значить слепо подчиниться ему. Научное познание действительности устраняет несбыточные утопии, содействуя построению достижимых идеалов; но в то же время оно придает силы и мужество в великой жизненной борьбе.
КОНЕЦ.
12 сентября 1897 года.
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
Санкт-Петербург
- Информация о материале
- Просмотров: 2494
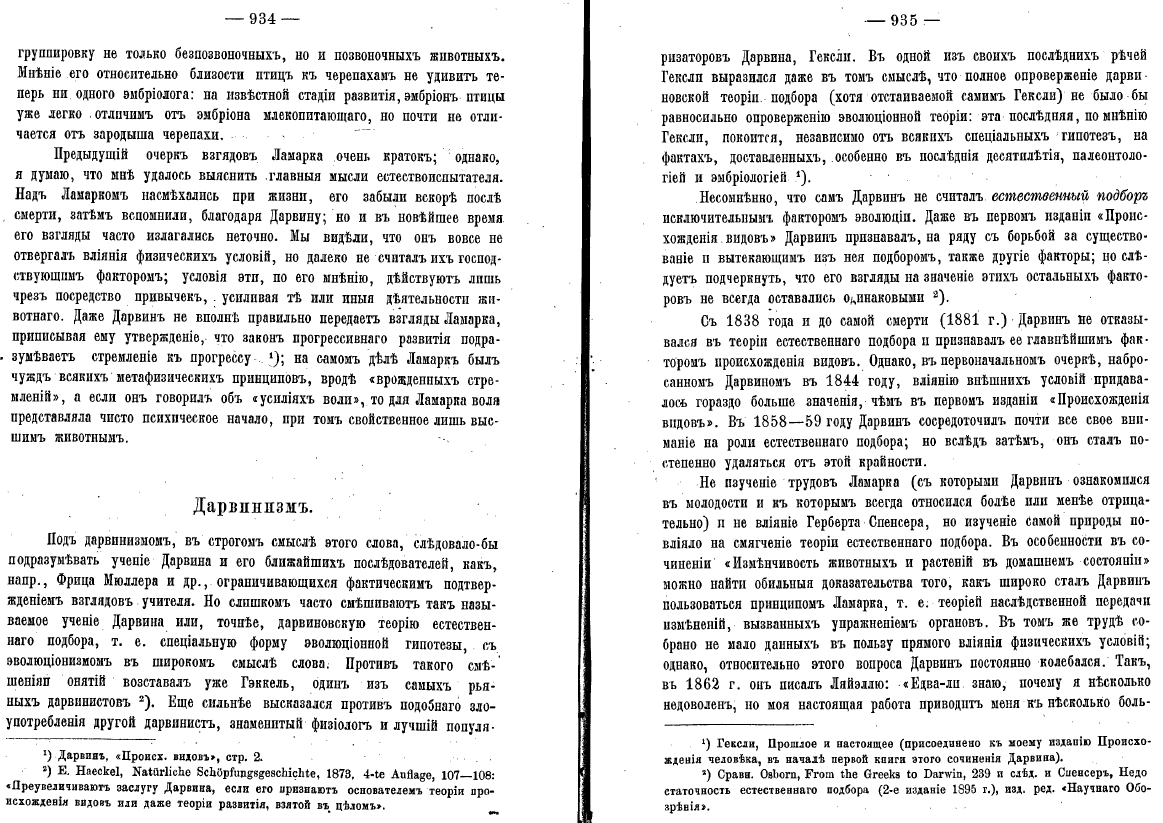
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ТОМ 2
Примеры.
Я начну с разбора некоторых общих выводов, установленных Дарвином в его «Происхождении видов». («Происхождение видов», стр. 370 п след. моего издания.).
- Информация о материале
- Просмотров: 2549
Подробнее: Недостаточность дарвиновского принципа естественного подбора.
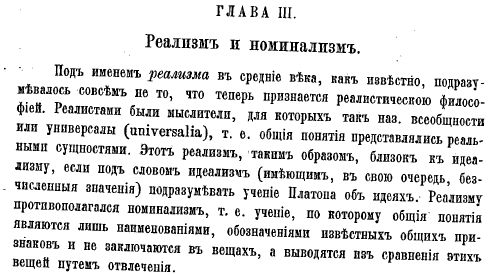
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ТОМ 2
Глава 3
Реализм и номинализм.
Под именем реализма в средние века, как известно, подразумевалось совсем не то, что теперь признается реалистическою философией. Реалистами были мыслители, для которых так наз. всеобщности или универсалы (universalia), т. е. общие понятия представлялись реальными сущностями. Этот реализм, таким образом, близок к идеализму, если под словом идеализм (имеющим, в свою очередь, бесчисленные значения) подразумевать учение Платона об идеях. Реализму противополагался номинализм, т. е. учение, по которому общие понятия являются лишь наименованиями, обозначениями известных общих признаков и не заключаются в вещах, а выводятся из сравнения этих вещей путем отвлечения.
В новейшее время принято думать, что номинализм одержал полную победу над схоластическим реализмом и что основные положения номинализма давно стали азбучными истинами.
Не забегая вперед, можно здесь заметить, что выбор между номинализмом и реализмом далеко не обязателен. На вопрос: реально ли существование общих понятий, существует ли, напр., как некоторая реальная вещь, белизна или красота, есть ли реальное существо, соответствующее родовому понятию человека или птицы, вовсе нет необходимости дать ответ да или нет, до тех пор, пока мы не условимся насчет понятий, соответствующих выражению: «действительное существование». Существует ли птица? Само собою разумеется, что птица вообще и даже отдельный вид птицы, например, воробей существует, или точнее, понимается нами, лишь через посредство особей.
До сих пор номинализм прав, но он прежде всего забывает довести свои положения до конечных логических выводов. Если ссылаться на непосредственное чувственное восприятие, то, в строгом смысле слова, я не могу видеть или осязать этого индивидуального воробья иначе, как в течение очень малого периода времени. Пройдет год, два и этот воробей значительно изменится, пройдет несколько лет, он умрет естественною или насильственною смертью. Точно также я не могу видеть «этого индивидуального человека», потому что он изменяется с каждым годом, подвигаясь от колыбели к могиле. «Все течет», как сказал Гераклит, и данный предмет со всеми данными индивидуальными особенностями существует лишь мгновение, так как непрерывно испытывает мелкие незаметные перемены, вскоре дающие заметный результат. Самая незыблемая скала выветривается, разрыхляется и распадается. Наши общие представления об индивидуальных предметах и людях слагаются путем рассматривания свойств, не изменяющихся заметным образом в течение короткого времени. Если бы этот индивидуальный человек ежеминутно испытывал резкие метаморфозы, вроде превращения юноши в старика и т. п., то едва ли мы могли бы составить себе общее представление о физических и психических свойствах такого человека. Прибегая к показаниям чувств, номинализм вступает, поэтому, на путь, угрожающий индивидууму наравне с видом или родом. Оказывается, что и индивидуум не есть нечто, непосредственно данное чувственному восприятию, но для составления себе общего представления об этом индивидууме мы должны, путем отвлечения, выделить существенные индивидуальные черты в одну группу, а черты, проявляющиеся у данного человека случайно—в другую группу. И этот процесс образования общих представлений и понятий далеко не есть лишь процесс образования названий. Психический акта усмотрения сходств обусловливается известными свойствами предметов, а если речь идет о сходствах, наблюдаемых нами при сравнении между собою живых существ, то эти сходства обусловливаются всего чаще общностью происхождения или же одинаковостью образа жизни. Новейший эволюционизм, особенно со времен Дарвина, значительно изменил постановку вопроса о номинализме и реализме, по крайней мере, по отношению к классификации живых существ. Со времен Дарвина никто уже не скажет, чтобы эти классификации доставляли нам либо предначертанные сверхъестественным путем типов (учение, близкое к схоластическому реализму), либо чисто отвлеченные понятия, служащие для удобного рассмотрения общих свойств значительного числа особей. «Собака» не есть некоторый неизменный «архетип», но это и не простое обозначение общих признаков всех виденных нами индивидуальных собак, а усмотрение вполне реального отношения между разными собаками. Это родовое понятие—не в грамматическом, а в биологическом смысле слова, т. е. понятие, указывающее на общность происхождения, так как все вообще собаки, если даже они произошли от разных диких видов, связаны родственными отношениями между собою, со всеми хищными млекопитающими и даже со всеми вообще позвоночными. Но и в том случае, когда мы обобщаем свойства неорганических и даже искусственно сделанных предметов, напр., домов, нетрудно видеть, что основою наших обобщений являются некоторые инетические отношения: все вообще жилые постройки возникли путем медленного усовершенствования хижин и шалашей, в которых укрываются туземцы некультурных стран. Даже такие понятия, как белизна, это не простые результаты такого логического отвлечения, которому не соответствовали бы никакие реальные отношения в мире. Белизна есть известное состояние поверхности предмета, при котором эта поверхность отражает лучи всех цветов спектра. То же относится и к отвлеченным моральным понятиям. Честность не есть некоторая аллегорическая фигура; но этому понятию соответствуют вполне реальные моральные свойства и не менее реальные поступки людей, не единичные, а повторяющиеся, а поэтому никак нельзя, вслед, за крайними номиналистами, отвергать общую реальную основу отдельных поступков и видеть в отвлеченном понятии о честности только звук пустой, —мнение, которое, впрочем, часто является продуктом горького житейского опыта...
- Информация о материале
- Просмотров: 8525
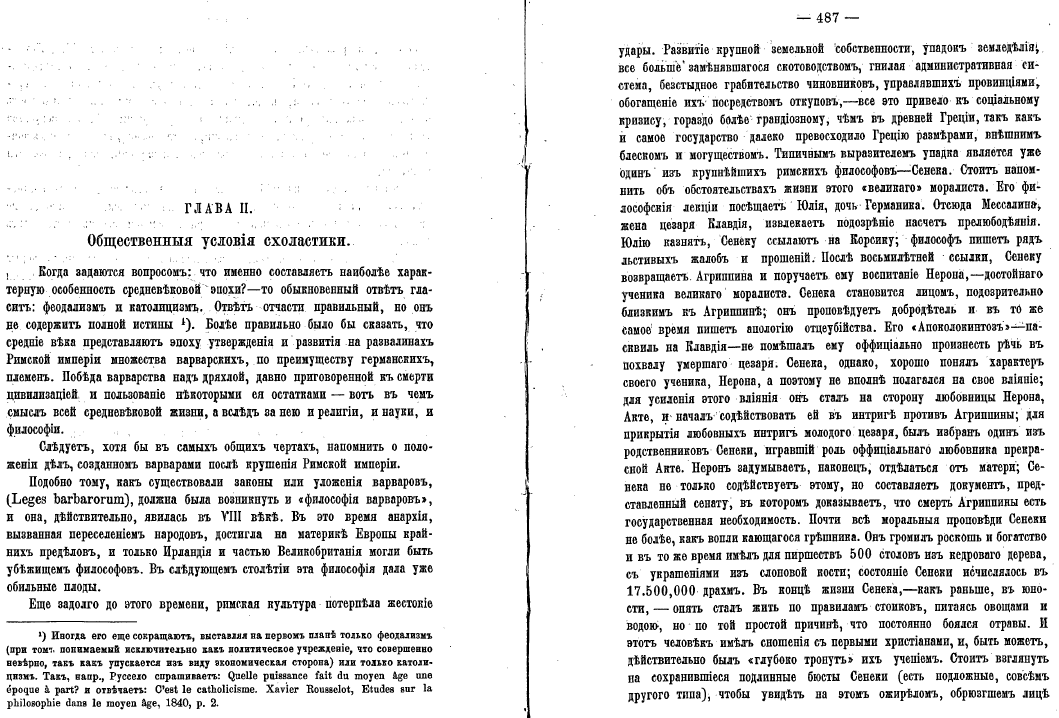
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ТОМ 2
ГЛАВА II.
Общественные условия схоластики.
Когда задаются вопросом: что именно составляет наиболее характерную особенность средневековой эпохи? - то обыкновенный ответ гласит: феодализм и католицизм. Ответ отчасти правильный, но он не содержит полной истины.
Иногда его еще сокращают, выставляя на первом плане только феодализм (притом, понимаемый исключительно как политическое учреждение, что совершенно неверно, так как упускается из виду экономическая сторона) или только католицизм. Так, напр., Руссель спрашивает: Quelle poiesance fait du moyen age une epoque й part? и отвечает: O'est le catholicisme. Xayier Rousselot, Etudes sur la philosophie dans le moyen age, 1840, p. 2.
Более правильно было бы сказать, что средние века представляют эпоху утверждения и развития на развалинах Римской империи множества варварских, по преимуществу германских, племен. Победа варварства над дряхлой, давно приговоренной к смерти цивилизацией, и пользование некоторыми её остатками - вот в чем смысл всей средневековой жизни, а вслед за нею и религии, и науки, и философии.
Следует, хотя бы в самых общих чертах, напомнить о положении дел, созданном варварами после крушения Римской империи.
Подобно тому, как существовали законы или уложения варваров, (Leges barbarorum), должна была возникнуть и «философия варваров», и она, действительно, явилась в VIII веке. В это время анархия, вызванная переселением народов, достигла на материке Европы крайних пределов, и только Ирландия и частью Великобритания могли быть убежищем философов. В следующем столетии эта философия дала уже обильные плоды.
- Информация о материале
- Просмотров: 2241
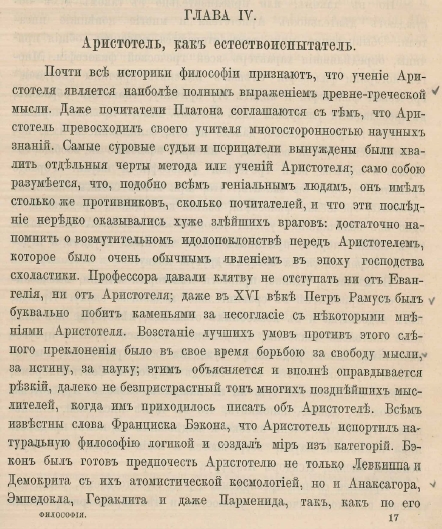
М.М.Филиппов
«Философия Действительности»
СПб.1895-97
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА IV.
Аристотель, как естествоиспытатель.
Почти все историки философии признают, что учение Аристотеля является наиболее полным выражением древнегреческой мысли. Даже почитатели Платона соглашаются с тем, что Аристотель превосходил своего учителя многосторонностью научных знаний. Самые суровые судьи и порицатели вынуждены были хвалить отдельные черты метода или учений Аристотеля; само собою разумеется, что, подобно всем гениальным людям, он имел столько же противников, сколько почитателей, и что эти последние нередко оказывались хуже злейших врагов: достаточно напомнить о возмутительном идолопоклонстве перед Аристотелем, которое было очень обычным явлением в эпоху господства схоластики. Профессора давали клятву не отступать ни от Евангелия, ни от Аристотеля; даже в XVI веке Петр Рамус был у буквально побит каменьями за несогласие с некоторыми мнениями Аристотеля. Восстание лучших умов против этого слепого преклонения было в свое время борьбой за свободу мысли, за истину, за науку; этим объясняется и вполне оправдывается резкий, далеко не беспристрастный тон многих позднейших мыслителей, когда им приходилось писать об Аристотеле. Всем известны слова Франциска Бэкона, что Аристотель испортил натуральную философию логикой и создал мир из категорий. Бэкон был готов предпочесть Аристотелю не только Левкиппа и Демокрита с их атомистической космологией, но и Анаксагора, Эмпедокла, Гераклита и даже Парменида, так, как, по его словам, все эти мыслители дают принципы, в которых есть хотя бы „запах" опыта. Бэкон, конечно, знал, что у Аристотеля можно найти немало указаний на опытное знание. Но, по его словам, Аристотель справлялся с опытом не для выработки правильных предложений и аксиом, а для приспособления опыта к заранее созданной системе; и по мнению Бэкона, этим путем Аристотель причинил даже больше зла, „чем те из его новейших последователей, которые совсем оставили опыт".
- Информация о материале
- Просмотров: 4341